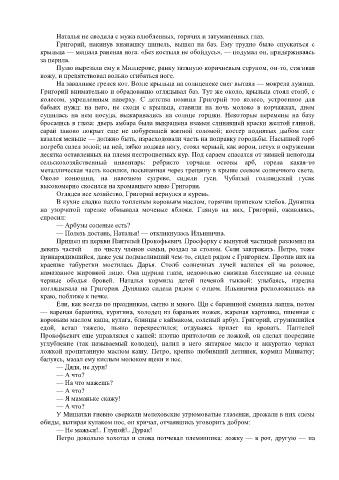Page 356 - Тихий Дон
P. 356
Наталья не сводила с мужа влюбленных, горячих и затуманенных глаз.
Григорий, накинув внапашку шинель, вышел на баз. Ему трудно было спускаться с
крыльца — мешала раненая нога. «Без костыля не обойдусь», — подумал он, придерживаясь
за перила.
Пулю вырезали ему в Миллерове, ранку затянуло коричневым струпом, он-то, стягивая
кожу, и препятствовал вольно сгибаться ноге.
На завалинке грелся кот. Возле крыльца на солнцепеке снег вытаял — мокрела лужица.
Григорий внимательно и обрадованно оглядывал баз. Тут же около, крыльца стоял столб, с
колесом, укрепленным наверху. С детства помнил Григорий это колесо, устроенное для
бабьих нужд: на него, не сходя с крыльца, ставили на ночь молоко в корчажках, днем
сушилась на нем посуда, выжаривались на солнце горшки. Некоторые перемены на базу
бросались в глаза: дверь амбара была выкрашена взамен слинявшей краски желтой глиной,
сарай заново покрыт еще не побуревшей житной соломой; костер поднятых дыбом слег
казался меньше — должно быть, израсходовали часть на поправку городьбы. Насыпной горб
погреба сизел золой; на ней, зябко поджав ногу, стоял черный, как ворон, петух в окружении
десятка оставленных на племя пестроцветных кур. Под сараем спасался от зимней непогоды
сельскохозяйственный инвентарь: ребристо торчали остовы арб, горела какая-то
металлическая часть косилки, посыпанная через трещину в крыше сеевом солнечного света.
Около конюшни, на навозном сугреве, сидели гуси. Чубатый голландский гусак
высокомерно скосился на хромавшего мимо Григория.
Оглядев все хозяйство, Григорий вернулся в курень.
В кухне сладко пахло топленым коровьим маслом, горячим припеком хлебов. Дуняшка
на узорчатой тарелке обмывала моченые яблоки. Глянув на них, Григорий, оживляясь,
спросил:
— Арбузы соленые есть?
— Полезь достань, Наталья! — откликнулась Ильинична.
Пришел из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на
девять частей — по числу членов семьи, роздал за столом. Сели завтракать. Петро, тоже
принарядившийся, даже усы подмасливший чем-то, сидел рядом с Григорием. Против них на
краешке табуретки мостилась Дарья. Столб солнечных лучей валился ей на розовое,
намазанное жировкой лицо. Она щурила глаза, недовольно снижала блестящие на солнце
черные ободья бровей. Наталья кормила детей печеной тыквой: улыбаясь, изредка
поглядывала на Григория. Дуняшка сидела рядом с отцом. Ильинична расположилась на
краю, поближе к печке.
Ели, как всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом
— вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с
коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, сгрузившийся
едой, встал тяжело, пьяно перекрестился; отдуваясь прилег на кровать. Пантелей
Прокофьевич еще управлялся с кашей: плотно притолочив ее ложкой, он сделал посредине
углубление (так называемый колодец), налил в него янтарное масло и аккуратно черпал
ложкой пропитанную маслом кашу. Петро, крепко любивший детишек, кормил Мишатку;
балуясь, мазал ему кислым молоком щеки и нос.
— Дядя, не дури!
— А что?
— На что мажешь?
— А что?
— Я маманьке скажу!
— А что?
У Мишатки гневно сверкали мелеховские угрюмоватые глазенки, дрожали в них слезы
обиды, вытирая кулаком нос, он кричал, отчаявшись уговорить добром:
— Не мажься!.. Глупой!.. Дурак!
Петро довольно хохотал и снова потчевал племянника: ложку — в рот, другую — на