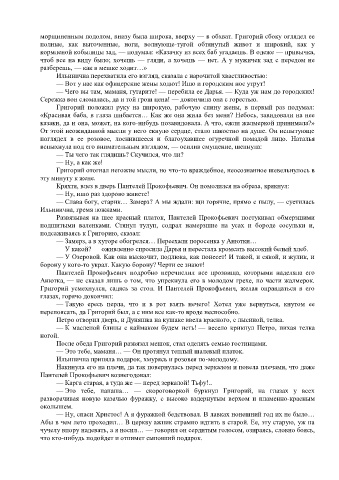Page 353 - Тихий Дон
P. 353
морщиненным подолом, внизу была широка, вверху — в обхват. Григорий сбоку оглядел ее
полные, как выточенные, ноги, волнующе-тугой обтянутый живот и широкий, как у
кормленой кобылицы зад, — подумал: «Казачку из всех баб угадаешь. В одеже — привычка,
чтоб все на виду было; хочешь — гляди, а хочешь — нет. А у мужичек зад с передом не
разберешь, — как в мешке ходит…»
Ильинична перехватила его взгляд, сказала с нарочитой хвастливостью:
— Вот у нас как офицерские жены ходют! Ишо и городским нос утрут!
— Чего вы там, маманя, гутарите! — перебила ее Дарья. — Куда уж нам до городских!
Сережка вон сломалась, да и той грош цена! — докончила она с горестью.
Григорий положил руку на широкую, рабочую спину жены, в первый раз подумал:
«Красивая баба, в глаза шибается… Как же она жила без меня? Небось, завидовали на нее
казаки, да и она, может, на кого-нибудь позавидовала. А что, ежли жалмеркой принимала?»
От этой неожиданной мысли у него екнуло сердце, стало пакостно на душе. Он испытующе
поглядел в ее розовое, лоснившееся и благоухавшее огуречной помадой лицо. Наталья
вспыхнула под его внимательным взглядом, — осилив смущение, шепнула:
— Ты чего так глядишь? Скучился, что ли?
— Ну, а как же!
Григорий отогнал негожие мысли, но что-то враждебное, неосознанное шевельнулось в
эту минуту к жене.
Кряхтя, влез в дверь Пантелей Прокофьевич. Он помолился на образа, крякнул:
— Ну, ишо раз здорово живете!
— Слава богу, старик… Замерз? А мы ждали: щи горячие, прямо с пылу, — суетилась
Ильинична, гремя ложками.
Развязывая на шее красный платок, Пантелей Прокофьевич постукивал обмерзшими
подшитыми валенками. Стянул тулуп, содрал намерзшие на усах и бороде сосульки и,
подсаживаясь к Григорию, сказал:
— Замерз, а в хуторе обогрелся… Переехали поросенка у Анютки…
— У какой? — оживленно спросила Дарья и перестала кромсать высокий белый хлеб.
— У Озеровой. Как она выскочит, подлюка, как понесет! И такой, и сякой, и жулик, и
борону у кого-то украл. Какую борону? Черти ее знают!
Пантелей Прокофьевич подробно перечислил все прозвища, которыми наделяла его
Анютка, — не сказал лишь о том, что упрекнула его в молодом грехе, по части жалмерок.
Григорий усмехнулся, садясь за стол. И Пантелей Прокофьевич, желая оправдаться в его
глазах, горячо докончил:
— Такую ересь перла, что и в рот взять нечего! Хотел уже вернуться, кнутом ее
перепоясать, да Григорий был, а с ним все как-то вроде неспособно.
Петро отворил дверь, и Дуняшка на кушаке ввела красного, с лысиной, телка.
— К масленой блины с каймаком будем исть! — весело крикнул Петро, пихая телка
ногой.
После обеда Григорий развязал мешок, стал оделять семью гостинцами.
— Это тебе, маманя… — Он протянул теплый шалевый платок.
Ильинична приняла подарок, хмурясь и розовея по-молодому.
Накинула его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечами, что даже
Пантелей Прокофьевич вознегодовал:
— Карга старая, а туда же — перед зеркалой! Тьфу!..
— Это тебе, папаша… — скороговоркой буркнул Григорий, на глазах у всех
разворачивая новую казачью фуражку, с высоко вздернутым верхом и пламенно-красным
околышем.
— Ну, спаси Христос! А я фуражкой бедствовал. В лавках нонешний год их не было…
Абы в чем лето проходил… В церкву ажник страмно идтить в старой. Ее, эту старую, уж на
чучелу впору надевать, а я носил… — говорил он сердитым голосом, озираясь, словно боясь,
что кто-нибудь подойдет и отнимет сыновний подарок.