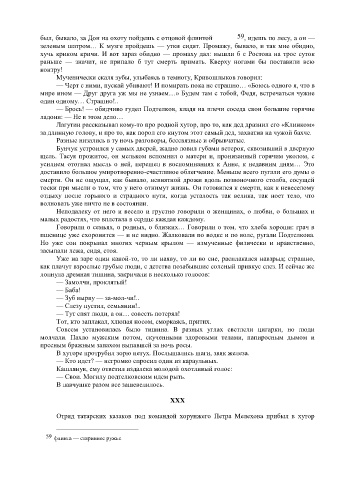Page 410 - Тихий Дон
P. 410
был, бывало, за Дон на охоту пойдешь с отцовой флинтой 59 , идешь по лесу, а он —
зеленым шатром… К музге пройдешь — утки сидят. Промажу, бывало, и так мне обидно,
хучь криком кричи. И вот зараз обидно — промаху дал: вышли б с Ростова на трое суток
раньше — значит, не припало б тут смерть примать. Кверху ногами бы поставили всю
контру!
Мученически скаля зубы, улыбаясь в темноту, Кривошлыков говорил:
— Черт с ними, пускай убивают! И помирать пока не страшно… «Боюсь одного я, что в
мире ином — Друг друга уж мы не узнаем…» Будем там с тобой, Федя, встречаться чужие
один одному… Страшно!..
— Брось! — обидчиво гудел Подтелков, кладя на плечи соседа свои большие горячие
ладони: — Не в этом дело…
Лагутин рассказывал кому-то про родной хутор, про то, как дед дразнил его «Клинком»
за длинную голову, и про то, как порол его кнутом этот самый дед, захватив на чужой бахче.
Разные низались в ту ночь разговоры, бессвязные и обрывчатые.
Бунчук устроился у самых дверей, жадно ловил губами ветерок, сквозивший в дверную
щель. Тасуя прожитое, он мельком вспомнил о матери и, пронизанный горячим уколом, с
усилием отогнал мысль о ней, перешел в воспоминаниях к Анне, к недавним дням… Это
доставило большое умиротворенно-счастливое облегчение. Меньше всего пугали его думы о
смерти. Он не ощущал, как бывало, невнятной дрожи вдоль позвоночного столба, сосущей
тоски при мысли о том, что у него отнимут жизнь. Он готовился к смерти, как к невеселому
отдыху после горького и страдного пути, когда усталость так велика, так ноет тело, что
волновать уже ничто не в состоянии.
Неподалеку от него и весело и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и
малых радостях, что вплетала в сердце каждая каждому.
Говорили о семьях, о родных, о близких… Говорили о том, что хлеба хороши: грач в
пшенице уже схоронится — и не видно. Жалковали по водке и по воле, ругали Подтелкова.
Но уже сон покрывал многих черным крылом — измученные физически и нравственно,
засыпали лежа, сидя, стоя.
Уже на заре один какой-то, то ли наяву, то ли во сне, расплакался навзрыд; страшно,
как плачут взрослые грубые люди, с детства позабывшие соленый привкус слез. И сейчас же
лопнула дремная тишина, закричали в несколько голосов:
— Замолчи, проклятый!
— Баба!
— Зуб вырву — за-мол-чи!..
— Слезу пустил, семьянин!..
— Тут спят люди, а он… совесть потерял!
Тот, кто заплакал, хлюпая носом, сморкаясь, притих.
Совсем установилась было тишина. В разных углах светлели цигарки, но люди
молчали. Пахло мужским потом, скученными здоровыми телами, папиросным дымом и
пресным бражным запахом выпавшей за ночь росы.
В хуторе протрубил зорю петух. Послышались шаги, звяк железа.
— Кто идет? — негромко спросил один из караульных.
Кашлянув, ему ответил издалека молодой охотливый голос:
— Свои. Могилу подтелковским идем рыть.
В лавчушке разом все зашевелилось.
XXX
Отряд татарских казаков под командой хорунжего Петра Мелехова прибыл в хутор
59 флинта — старинное ружье