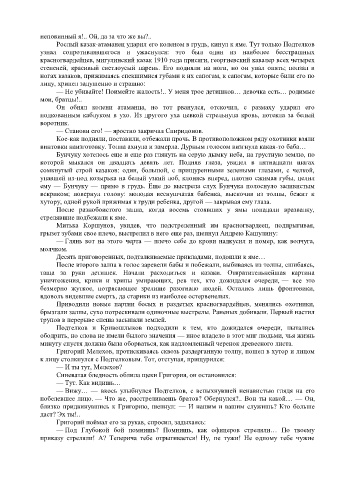Page 413 - Тихий Дон
P. 413
неповинный я!.. Ой, да за что же вы?..
Рослый казак-атаманец ударил его коленом в грудь, кинул к яме. Тут только Подтелков
узнал сопротивлявшегося и ужаснулся: это был один из наиболее бесстрашных
красногвардейцев, мигулинский казак 1910 года присяги, георгиевский кавалер всех четырех
степеней, красивый светлоусый парень. Его подняли на ноги, но он упал опять; ползал в
ногах казаков, прижимаясь спекшимися губами к их сапогам, к сапогам, которые били его по
лицу, хрипел задушенно и страшно:
— Не убивайте! Поимейте жалость!.. У меня трое детишков… девочка есть… родимые
мои, братцы!..
Он обнял колени атаманца, но тот рванулся, отскочил, с размаху ударил его
подкованным каблуком в ухо. Из другого уха цевкой стрельнула кровь, потекла за белый
воротник.
— Станови его! — яростно закричал Спиридонов.
Кое-как подняли, поставили, отбежали прочь. В противоположном ряду охотники взяли
винтовки наизготовку. Толпа ахнула и замерла. Дурным голосом визгнула какая-то баба…
Бунчуку хотелось еще и еще раз глянуть на серую дымку неба, на грустную землю, по
которой мыкался он двадцать девять лет. Подняв глаза, увидел в пятнадцати шагах
сомкнутый строй казаков: один, большой, с прищуренными зелеными глазами, с челкой,
упавшей из-под козырька на белый узкий лоб, клонясь вперед, плотно сжимая губы, целил
ему — Бунчуку — прямо в грудь. Еще до выстрела слух Бунчука полоснуло заливистым
вскриком; повернул голову: молодая веснушчатая бабенка, выскочив из толпы, бежит к
хутору, одной рукой прижимая к груди ребенка, другой — закрывая ему глаза.
После разнобоистого залпа, когда восемь стоявших у ямы попадали вразвалку,
стрелявшие подбежали к яме.
Митька Коршунов, увидев, что подстреленный им красногвардеец, подпрыгивая,
грызет зубами свое плечо, выстрелил в него еще раз, шепнул Андрею Кашулину:
— Глянь вот на этого черта — плечо себе до крови надкусил и помер, как волчуга,
молчком.
Десять приговоренных, подталкиваемые прикладами, подошли к яме…
После второго залпа в голос заревели бабы и побежали, выбиваясь из толпы, сшибаясь,
таща за руки детишек. Начали расходиться и казаки. Отвратительнейшая картина
уничтожения, крики и хрипы умирающих, рев тех, кто дожидался очереди, — все это
безмерно жуткое, потрясающее зрелище разогнало людей. Остались лишь фронтовики,
вдоволь видевшие смерть, да старики из наиболее остервенелых.
Приводили новые партии босых и раздетых красногвардейцев, менялись охотники,
брызгали залпы, сухо потрескивали одиночные выстрелы. Раненых добивали. Первый настил
трупов в перерыве спеша засыпали землей.
Подтелков и Кривошлыков подходили к тем, кто дожидался очереди, пытались
ободрить, но слова не имели былого значения — иное владело в этот миг людьми, чья жизнь
минуту спустя должна была оборваться, как надломленный черенок древесного листа.
Григорий Мелехов, протискиваясь сквозь раздерганную толпу, пошел в хутор и лицом
к лицу столкнулся с Подтелковым. Тот, отступая, прищурился:
— И ты тут, Мелехов?
Синеватая бледность облила щеки Григория, он остановился:
— Тут. Как видишь…
— Вижу… — вкось улыбнулся Подтелков, с вспыхнувшей ненавистью глядя на его
побелевшее лицо. — Что же, расстреливаешь братов? Обернулся?.. Вон ты какой… — Он,
близко придвинувшись к Григорию, шепнул: — И нашим и вашим служишь? Кто больше
даст? Эх ты!..
Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь:
— Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли… По твоему
приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие