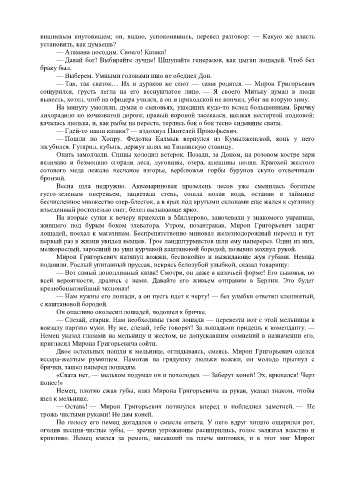Page 418 - Тихий Дон
P. 418
вишневым кнутовищем; он, видно, успокоившись, перевел разговор: — Какую же власть
установить, как думаешь?
— Атамана посодим. Своего! Казака!
— Давай бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Чтоб без
браку был.
— Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон.
— Так, так сваток… Их и дураков не сеют — сами родятся. — Мирон Григорьевич
сощурился, грусть легла на его веснушчатое лицо. — Я своего Митьку думал в люди
вывесть, хотел, чтоб на офицера учился, а он и приходской не кончил, убег на вторую зиму.
На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку
лихорадило по кочковатой дороге; правый вороной засекался, щелкая нестертой подковой;
качалась люлька, и, как рыбы на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты.
— Гдей-то наши казаки? — вздохнул Пантелей Прокофьевич.
— Пошли по Хопру. Федотка Калмык вернулся из Кумылженской, конь у него
загубился. Гутарил, кубыть, держут шлях на Тишанскую станицу.
Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за Доном, на розовом костре зари
величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого
сотового меда лежало песчаное взгорье, верблюжьи горбы бурунов скупо отсвечивали
бронзой.
Весна шла недружно. Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым
густо-зеленым опереньем, зацветала степь, сошла полая вода, оставив в займище
бесчисленное множество озер-блесток, а в ярах под крутыми склонами еще жался к суглинку
изъеденный ростепелью снег, белел вызывающе ярко.
На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово, заночевали у знакомого украинца,
жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг
лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд и тут
первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландштурмистов шли ему наперерез. Один из них,
мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, позывно махнул рукой.
Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойно и выжидающе жуя губами. Немцы
подошли. Рослый упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу:
— Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже в казачьей форме! Его сыновья, по
всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет
прелюбопытнейший экспонат!
— Нам нужны его лошади, а он пусть идет к черту! — без улыбки ответил клешнятый,
с каштановой бородой.
Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке.
— Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади — перевезти вот с этой мельницы к
вокзалу партию муки. Ну же, слезай, тебе говорят! За лошадьми придешь к коменданту. —
Немец указал глазами на мельницу и жестом, не допускавшим сомнений в назначении его,
пригласил Мирона Григорьевича сойти.
Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся
иссера-желтым румянцем. Намотав на грядушку люльки вожжи, он молодо прыгнул с
брички, зашел наперед лошадям.
«Свата нет, — мельком подумал он и похолодел. — Заберут коней! Эх, врюхался! Черт
понес!»
Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтобы
шел к мельнице.
— Оставь! — Мирон Григорьевич потянулся вперед и побледнел заметней. — Не
трожь чистыми руками! Не дам коней.
По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот,
оголив иссиня-чистые зубы, — зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и
крикливо. Немец взялся за ремень, висевший на плече винтовки, и в этот миг Мирон