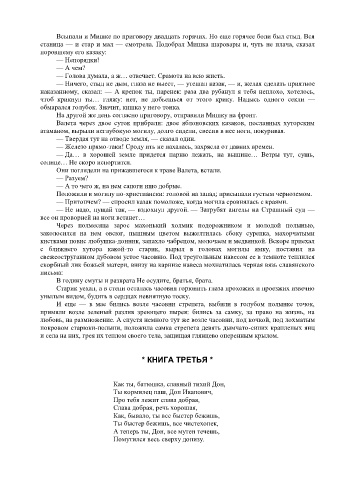Page 416 - Тихий Дон
P. 416
Всыпали и Мишке по приговору двадцать горячих. Но еще горячее боли был стыд. Вся
станица — и стар и мал — смотрела. Подобрал Мишка шаровары и, чуть не плача, сказал
поровшему его казаку:
— Непорядки!
— А чем?
— Голова думала, а ж… отвечает. Срамота на всю жисть.
— Ничего, стыд не дым, глаза не выест, — утешал казак, — и, желая сделать приятное
наказанному, сказал: — А крепок ты, паренек: раза два рубанул я тебя неплохо, хотелось,
чтоб крикнул ты… гляжу: нет, не добьешься от этого крику. Надысь одного секли —
обмарался голубок. Значит, кишка у него тонка.
На другой же день согласно приговору, отправили Мишку на фронт.
Валета через двое суток прибрали: двое яблоновских казаков, посланных хуторским
атаманом, вырыли неглубокую могилу, долго сидели, свесив в нее ноги, покуривая.
— Твердая тут на отводе земля, — сказал один.
— Железо прямо-таки! Сроду ить не пахалась, захрясла от давних времен.
— Да… в хорошей земле придется парню лежать, на вышине… Ветры тут, сушь,
солнце… Не скоро испортится.
Они поглядели на прижавшегося к траве Валета, встали.
— Разуем?
— А то чего ж, на нем сапоги ишо добрые.
Положили в могилу по-христиански: головой на запад; присыпали густым черноземом.
— Притопчем? — спросил казак помоложе, когда могила сровнялась с краями.
— Не надо, пущай так, — вздохнул другой. — Затрубят ангелы на Страшный суд —
все он проворней на ноги встанет…
Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью,
заколосился на нем овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми
кистками повис любушка-донник, запахло чабрецом, молочаем и медвянкой. Вскоре приехал
с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на
свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился
скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского
письма:
В годину смуты и разврата Не осудите, братья, брата.
Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно
унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.
И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок,
примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на
любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым
покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц
и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом.
* КНИГА ТРЕТЬЯ *
Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек,
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.