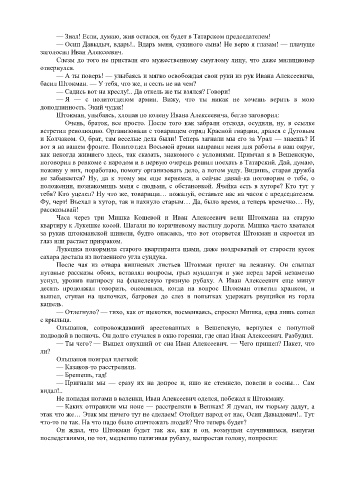Page 499 - Тихий Дон
P. 499
— Знал! Если, думаю, жив остался, он будет в Татарском председателем!
— Осип Давыдыч, вдарь!.. Вдарь меня, сукиного сына! Не верю я глазам! — плачуще
заголосил Иван Алексеевич.
Слезы до того не пристали его мужественному смуглому лицу, что даже милиционер
отвернулся.
— А ты поверь! — улыбаясь и мягко освобождая свои руки из рук Ивана Алексеевича,
басил Штокман. — У тебя, что же, и сесть не на чем?
— Садись вот на креслу!.. Да откель же ты взялся? Говори!
— Я — с политотделом армии. Вижу, что ты никак не хочешь верить в мою
доподлинность. Экий чудак!
Штокман, улыбаясь, хлопая по колену Ивана Алексеевича, бегло заговорил:
— Очень, браток, все просто. После того как забрали отсюда, осудили, ну, в ссылке
встретил революцию. Организовали с товарищем отряд Красной гвардии, дрался с Дутовым
и Колчаком. О, брат, там веселые дела были! Теперь загнали мы его за Урал — знаешь? И
вот я на вашем фронте. Политотдел Восьмой армии направил меня для работы в ваш округ,
как некогда жившего здесь, так сказать, знакомого с условиями. Примчал я в Вешенскую,
поговорил в ревкоме с народом и в первую очередь решил поехать в Татарский. Дай, думаю,
поживу у них, поработаю, помогу организовать дело, а потом уеду. Видишь, старая дружба
не забывается? Ну, да к этому мы еще вернемся, а сейчас давай-ка поговорим о тебе, о
положении, познакомишь меня с людьми, с обстановкой. Ячейка есть в хуторе? Кто тут у
тебя? Кто уцелел? Ну что же, товарищи… пожалуй, оставьте нас на часок с председателем.
Фу, черт! Въехал в хутор, так и пахнуло старым… Да, было время, а теперь времечко… Ну,
рассказывай!
Часа через три Мишка Кошевой и Иван Алексеевич вели Штокмана на старую
квартиру к Лукешке косой. Шагали по коричневому настилу дороги. Мишка часто хватался
за рукав штокманской шинели, будто опасаясь, что вот оторвется Штокман и скроется из
глаз или растает призраком.
Лукешка покормила старого квартиранта щами, даже ноздреватый от старости кусок
сахара достала из потаенного угла сундука.
После чая из отвара вишневых листьев Штокман прилег на лежанку. Он слышал
путаные рассказы обоих, вставлял вопросы, грыз мундштук и уже перед зарей незаметно
уснул, уронив папиросу на фланелевую грязную рубаху. А Иван Алексеевич еще минут
десять продолжал говорить, опомнился, когда на вопрос Штокман ответил храпком, и
вышел, ступая на цыпочках, багровея до слез в попытках удержать рвущийся из горла
кашель.
— Отлегнуло? — тихо, как от щекотки, посмеиваясь, спросил Мишка, едва лишь сошел
с крыльца.
Ольшанов, сопровождавший арестованных в Вешенскую, вернулся с попутной
подводой в полночь. Он долго стучался в окно горенки, где спал Иван Алексеевич. Разбудил.
— Ты чего? — Вышел опухший от сна Иван Алексеевич. — Чего пришел? Пакет, что
ли?
Ольшанов поиграл плеткой:
— Казаков-то расстреляли.
— Брешешь, гад!
— Пригнали мы — сразу их на допрос и, ишо не стемнело, повели в сосны… Сам
видал!..
Не попадая ногами в валенки, Иван Алексеевич оделся, побежал к Штокману.
— Каких отправили мы ноне — расстреляли в Вешках! Я думал, им тюрьму дадут, а
этак что же… Этак мы ничего тут не сделаем! Отойдет народ от нас, Осип Давыдович!.. Тут
что-то не так. На что надо было сничтожать людей? Что теперь будет?
Он ждал, что Штокман будет так же, как и он, возмущен случившимся, напуган
последствиями, но тот, медленно натягивая рубаху, выпростав голову, попросил: