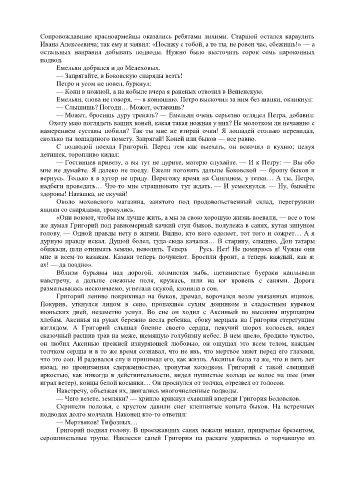Page 496 - Тихий Дон
P. 496
Сопровождавшие красноармейцы оказались ребятами лихими. Старшой остался караулить
Ивана Алексеевича; так ему и заявил: «Посижу с тобой, а то ты, не ровен час, сбежишь!» — а
остальных направил добывать подводы. Нужно было высточить сорок семь пароконных
подвод.
Емельян добрался и до Мелеховых.
— Запрягайте, в Боковскую снаряды везть!
Петро и усом не повел, буркнул:
— Кони в ножной, а на кобыле вчера я раненых отвозил в Вешенскую.
Емельян, слова не говоря, — в конюшню. Петро выскочил за ним без шапки, окликнул:
— Слышишь? Погоди… Может, оставишь?
— Может, бросишь дуру трепать? — Емельян очень серьезно оглядел Петра, добавил:
— Охоту маю поглядеть ваших коней, какая такая ножная у них? Не молотком ли нечаянно с
намерением суставы побили? Так ты мне не втирай очки! Я лошадей столько перевидал,
сколько ты лошадиного помету. Запрягай! Коней или быков — все равно.
С подводой поехал Григорий. Перед тем как выехать, он вскочил в кухню; целуя
детишек, торопливо кидал:
— Гостинцев привезу, а вы тут не дурите, матерю слухайте. — И к Петру: — Вы обо
мне не думайте. Я далеко не поеду. Ежели погонять дальше Боковской — брошу быков и
вернусь. Только я в хутор не приду. Перегожу время на Сингином, у тетки… А ты, Петро,
надбеги проведать… Что-то мне страшновато тут ждать. — И усмехнулся. — Ну, бывайте
здоровы! Наташка, не скучай!
Около моховского магазина, занятого под продовольственный склад, перегрузили
ящики со снарядами, тронулись.
«Они воюют, чтобы им лучше жить, а мы за свою хорошую жизнь воевали, — все о том
же думал Григорий под равномерный качкий ступ быков, полулежа в санях, кутая зипуном
голову. — Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет… А я
дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался… В старину, слышно, Дон татары
обижали, шли отнимать землю, неволить. Теперь — Русь. Нет! Не помирюсь я! Чужие они
мне и всем-то казакам. Казаки теперь почунеют. Бросили фронт, а теперь каждый, как я:
ах! — да поздно».
Вблизи бурьяны над дорогой, холмистая зыбь, щетинистые буераки наплывали
навстречу, а дальше снежные поля, кружась, шли на юг вровень с санями. Дорога
разматывалась нескончаемо, угнетала скукой, клонила в сон.
Григорий лениво покрикивал на быков, дремал, ворочался возле увязанных ящиков.
Покурив, уткнулся лицом в сено, пропахшее сухим донником и сладостным куревом
июньских дней, незаметно уснул. Во сне он ходил с Аксиньей по высоким шуршащим
хлебам. Аксинья на руках бережно несла ребенка, сбоку мерцала на Григория стерегущим
взглядом. А Григорий слышал биение своего сердца, певучий шорох колосьев, видел
сказочный расшив трав на меже, щемящую голубизну небес. В нем цвело, бродило чувство,
он любил Аксинью прежней изнуряющей любовью, он ощущал это всем телом, каждым
толчком сердца и в то же время сознавал, что не явь, что мертвое зияет перед его глазами,
что это сон. И радовался сну и принимал его, как жизнь. Аксинья была та же, что и пять лет
назад, но пронизанная сдержанностью, тронутая холодком. Григорий с такой слепящей
яркостью, как никогда в действительности, видел пушистые кольца ее волос на шее (ими
играл ветер), концы белой косынки… Он проснулся от толчка, отрезвел от голосов.
Навстречу, объезжая их, двигались многочисленные подводы.
— Чего везете, земляки? — хрипло крикнул ехавший впереди Григория Бодовсков.
Скрипели полозья, с хрустом давили снег клешнятые копыта быков. На встречных
подводах долго молчали. Наконец кто-то ответил:
— Мертвяков! Тифозных…
Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали внакат, прикрытые брезентом,
серошинельные трупы. Наклески саней Григория на раскате ударились о торчавшую из