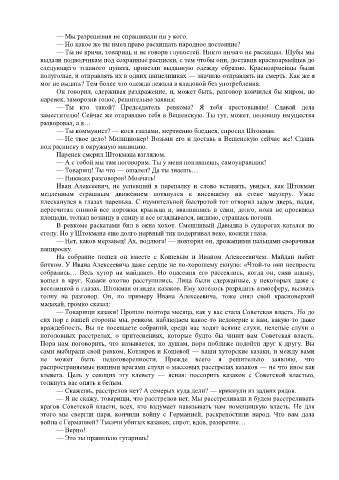Page 503 - Тихий Дон
P. 503
— Мы разрешения не спрашивали ни у кого.
— Но какое же ты имел право расхищать народное достояние?
— Ты не кричи, товарищ, и не говори глупостей. Никто ничего не расхищал. Шубы мы
выдали подводчикам под сохранные расписки, с тем чтобы они, доставив красноармейцев до
следующего этапного пункта, привезли выданную одежду обратно. Красноармейцы были
полуголые, и отправлять их в одних шинелишках — значило отправлять на смерть. Как же я
мог не выдать? Тем более что одежда лежала в кладовой без употребления.
Он говорил, сдерживая раздражение, и, может быть, разговор кончился бы миром, но
паренек, заморозив голос, решительно заявил:
— Ты кто такой? Председатель ревкома? Я тебя арестовываю! Сдавай дела
заместителю! Сейчас же отправляю тебя в Вешенскую. Ты тут, может, половину имущества
разворовал, а я…
— Ты коммунист? — кося глазами, мертвенно бледнея, спросил Штокман.
— Не твое дело! Милиционер! Возьми его и доставь в Вешенскую сейчас же! Сдашь
под расписку в окружную милицию.
Паренек смерил Штокмана взглядом.
— А с тобой мы там поговорим. Ты у меня попляшешь, самоуправщик!
— Товарищ! Ты что — ошалел? Да ты знаешь…
— Никаких разговоров! Молчать!
Иван Алексеевич, не успевший в перепалку и слово вставить, увидел, как Штокман
медленным страшным движением потянулся к висевшему на стене маузеру. Ужас
плесканулся в глазах паренька. С изумительной быстротой тот отворил задом дверь, падая,
пересчитал спиной все порожки крыльца и, ввалившись в сани, долго, пока не проскакал
площади, толкал возницу в спину и все оглядывался, видимо, страшась погони.
В ревкоме раскатами бил в окна хохот. Смешливый Давыдка в судорогах катался по
столу. Но у Штокмана еще долго нервный тик подергивал веко, косили глаза.
— Нет, каков мерзавец! Ах, подлюга! — повторял он, дрожащими пальцами сворачивая
папироску.
На собрание пошел он вместе с Кошевым и Иваном Алексеевичем. Майдан набит
битком. У Ивана Алексеевича даже сердце не по-хорошему екнуло: «Чтой-то они неспроста
собрались… Весь хутор на майдане». Но опасения его рассеялись, когда он, сняв шапку,
вошел в круг. Казаки охотно расступились. Лица были сдержанные, у некоторых даже с
веселинкой в глазах. Штокман оглядел казаков. Ему хотелось разрядить атмосферу, вызвать
толпу на разговор. Он, по примеру Ивана Алексеевича, тоже снял свой красноверхий
малахай, громко сказал:
— Товарищи казаки! Прошло полтора месяца, как у вас стала Советская власть. Но до
сих пор с вашей стороны мы, ревком, наблюдаем какое-то недоверие к нам, какую-то даже
враждебность. Вы не посещаете собраний, среди вас ходят всякие слухи, нелепые слухи о
поголовных расстрелах, о притеснениях, которые будто бы чинит вам Советская власть.
Пора нам поговорить, что называется, по душам, пора поближе подойти друг к другу. Вы
сами выбирали свой ревком. Котляров и Кошевой — ваши хуторские казаки, и между вами
не может быть недоговоренности. Прежде всего я решительно заявляю, что
распространяемые нашими врагами слухи о массовых расстрелах казаков — не что иное как
клевета. Цель у сеющих эту клевету — ясная: поссорить казаков с Советской властью,
толкнуть вас опять к белым.
— Скажешь, расстрелов нет? А семерых куда дели? — крикнули из задних рядов.
— Я не скажу, товарищи, что расстрелов нет. Мы расстреливали и будем расстреливать
врагов Советской власти, всех, кто вздумает навязывать нам помещицкую власть. Не для
этого мы свергли царя, кончили войну с Германией, раскрепостили народ. Что вам дала
война с Германией? Тысячи убитых казаков, сирот, вдов, разорение…
— Верно!
— Это ты правильно гутаришь!