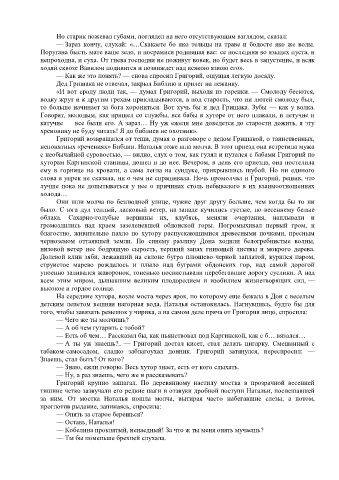Page 565 - Тихий Дон
P. 565
Но старик пожевал губами, поглядел на него отсутствующим взглядом, сказал:
— Зараз кончу, слухай: «…Скакаете бо яко тельцы на траве и бодосте яко же волы.
Поругана бысть мате ваше зело, и посрамися родившая вас: се последняя во языцех пуста, и
непроходна, и суха. От гнева господня не поживут вовек, но будет весь в запустение, и всяк
ходяй сквозе Вавилон подивится и позвиждет над всякою язвою его».
— Как же это понять? — снова спросил Григорий, ощущая легкую досаду.
Дед Гришака не отвечал, закрыл Библию и прилег на лежанку.
«И вот сроду люди так, — думал Григорий, выходя из горенки. — Смолоду бесются,
водку жрут и к другим грехам прикладываются, а под старость, что ни лютей смолоду был,
то больше начинает за бога хорониться. Вот хучь бы и дед Гришака. Зубы — как у волка.
Говорят, молодым, как пришел со службы, все бабы в хуторе от него плакали, и летучие и
катучие — все были его. А зараз… Ну уж ежели мне доведется до старости дожить, я эту
хреновину не буду читать! Я до библиев не охотник».
Григорий возвращался от тещи, думая о разговоре с дедом Гришакой, о таинственных,
непонятных «речениях» Библии. Наталья тоже шла молча. В этот приезд она встретила мужа
с необычайной суровостью, — видно, слух о том, как гулял и путался с бабами Григорий по
хуторам Каргинской станицы, дошел и до нее. Вечером, в день его приезда, она постелила
ему в горнице на кровати, а сама легла на сундуке, прикрывшись шубой. Но ни единого
слова в упрек не сказала, ни о чем не спрашивала. Ночь промолчал и Григорий, решив, что
лучше пока не допытываться у нее о причинах столь небывалого в их взаимоотношениях
холода…
Они шли молча по безлюдной улице, чужие друг другу больше, чем когда бы то ни
было. С юга дул теплый, ласковый ветер, на западе кучились густые, по-весеннему белые
облака. Сахарно-голубые вершины их, клубясь, меняли очертания, наплывали и
громоздились над краем зазеленевшей обдонской горы. Погромыхивал первый гром, и
благостно, живительно пахло по хутору распускающимися древесными почками, пресным
черноземом оттаявшей земли. По синему разливу Дона ходили белогребнистые волны,
низовой ветер нес бодрящую сырость, терпкий запах гниющей листвы и мокрого дерева.
Долевой клин зяби, лежавший на склоне бугра плюшево-черной заплатой, курился паром,
струистое марево рождалось и плыло над буграми обдонских гор, над самой дорогой
упоенно заливался жаворонок, тоненько посвистывали перебегавшие дорогу суслики. А над
всем этим миром, дышавшим великим плодородием и изобилием жизнетворящих сил, —
высокое и гордое солнце.
На середине хутора, возле моста через ярок, по которому еще бежала в Дон с веселым
детским лепетом вешняя нагорная вода, Наталья остановилась. Нагнувшись, будто бы для
того, чтобы завязать ремешок у чирика, а на самом деле пряча от Григория лицо, спросила:
— Чего же ты молчишь?
— А об чем гутарить с тобой?
— Есть об чем… Рассказал бы, как пьянствовал под Каргинской, как с б… вязался…
— А ты уж знаешь?.. — Григорий достал кисет, стал делать цигарку. Смешанный с
табаком-самосадом, сладко заблагоухал донник. Григорий затянулся, переспросил: —
Знаешь, стал быть? От кого?
— Знаю, ежли говорю. Весь хутор знает, есть от кого слыхать.
— Ну, а раз знаешь, чего же и рассказывать?
Григорий крупно зашагал. По деревянному настилу мостка в прозрачной весенней
тишине четко зазвучали его редкие шаги и отзвуки дробной поступи Натальи, поспешавшей
за ним. От мостка Наталья пошла молча, вытирая часто набегавшие слезы, а потом,
проглотив рыдание, запинаясь, спросила:
— Опять за старое берешься?
— Оставь, Наталья!
— Кобелина проклятый, ненаедный! За что ж ты меня опять мучаешь?
— Ты бы поменьше брехней слухала.