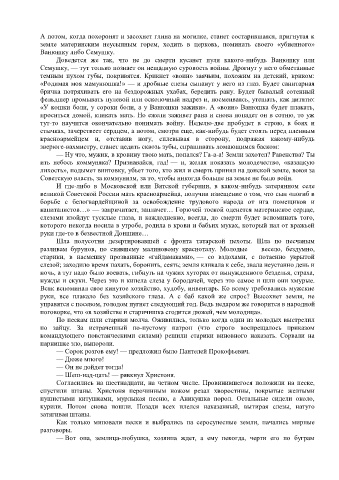Page 561 - Тихий Дон
P. 561
А потом, когда похоронят и засохнет глина на могилке, станет состарившаяся, пригнутая к
земле материнским неусыпным горем, ходить в церковь, поминать своего «убиенного»
Ванюшку либо Семушку.
Доведется же так, что не до смерти кусанет пуля какого-нибудь Ванюшку или
Семушку, — тут только познает он нещадную суровость войны. Дрогнут у него обметанные
темным пухом губы, покривятся. Крикнет «воин» заячьим, похожим на детский, криком:
«Родимая моя мамунюшка!» — и дробные слезы сыпанут у него из глаз. Будет санитарная
бричка потряхивать его на бездорожных ухабах, бередить рану. Будет бывалый сотенный
фельдшер промывать пулевой или осколочный надрез и, посмеиваясь, утешать, как дитятю:
«У кошки боли, у сороки боли, а у Ванюшки заживи». А «воин» Ванюшка будет плакать,
проситься домой, кликать мать. Но ежели заживет рана и снова попадет он в сотню, то уж
тут-то научится окончательно понимать войну. Неделю-две пробудет в строю, в боях и
стычках, зачерствеет сердцем, а потом, смотри еще, как-нибудь будет стоять перед пленным
красноармейцем и, отставив ногу, сплевывая в сторону, подражая какому-нибудь
зверюге-вахмистру, станет цедить сквозь зубы, спрашивать ломающимся баском:
— Ну что, мужик, в кровину твою мать, попался? Га-а-а! Земли захотел? Равенства? Ты
ить небось коммуняка? Признавайся, гад! — и, желая показать молодечество, «казацкую
лихость», подымет винтовку, убьет того, кто жил и смерть принял на донской земле, воюя за
Советскую власть, за коммунизм, за то, чтобы никогда больше на земле не было войн.
И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе
великой Советской России мать красноармейца, получив извещение о том, что сын «погиб в
борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа от ига помещиков и
капиталистов…» — запричитает, заплачет… Горючей тоской оденется материнское сердце,
слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того,
которого некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, который пал от вражьей
руки где-то в безвестной Доншине…
Шла полусотня дезертировавшей с фронта татарской пехоты. Шла по песчаным
разливам бурунов, по сиявшему малиновому красноталу. Молодые — весело, бездумно,
старики, в насмешку прозванные «гайдамаками», — со вздохами, с потаенно укрытой
слезой; заходило время пахать, боронить, сеять; земля кликала к себе, звала неустанно день и
ночь, а тут надо было воевать, гибнуть на чужих хуторах от вынужденного безделья, страха,
нужды и скуки. Через это и кипела слеза у бородачей, через это самое и шли они хмурые.
Всяк вспоминал свое кинутое хозяйство, худобу, инвентарь. Ко всему требовались мужские
руки, все плакало без хозяйского глаза. А с баб какой же спрос? Высохнет земля, не
управятся с посевом, голодом пугнет следующий год. Ведь недаром же говорится в народной
поговорке, что «в хозяйстве и старичишка сгодится дюжей, чем молодица».
По пескам шли старики молча. Оживились, только когда один из молодых выстрелил
по зайцу. За истраченный по-пустому патрон (что строго воспрещалось приказом
командующего повстанческими силами) решили старики виновного наказать. Сорвали на
парнишке зло, выпороли.
— Сорок розгов ему! — предложил было Пантелей Прокофьевич.
— Дюже много!
— Он не дойдет тогда!
— Шеш-над-цать! — рявкнул Христоня.
Согласились на шестнадцати, на четном числе. Провинившегося положили на песке,
спустили штаны. Христоня перочинным ножом резал хворостины, покрытые желтыми
пушистыми китушками, мурлыкая песню, а Аникушка порол. Остальные сидели около,
курили. Потом снова пошли. Позади всех плелся наказанный, вытирая слезы, натуго
затягивая штаны.
Как только миновали пески и выбрались на серосупесные земли, начались мирные
разговоры.
— Вот она, землица-любушка, хозяина ждет, а ему некогда, черти его по буграм