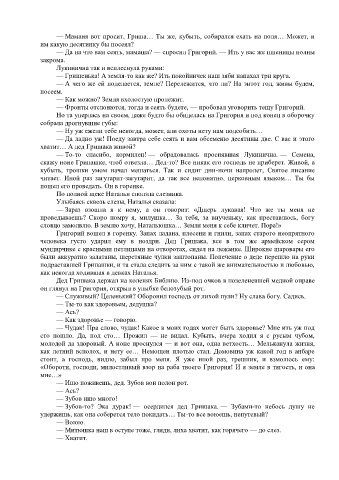Page 563 - Тихий Дон
P. 563
— Маманя вот просит, Гриша… Ты же, кубыть, собирался ехать на поля… Может, и
им какую десятинку бы посеял?
— Да на что вам сеять, мамаша? — спросил Григорий. — Ить у вас же пшеницы полны
закрома.
Лукинична так и всплеснула руками:
— Гришенька! А земля-то как же? Ить покойничек наш зяби напахал три круга.
— А чего же ей поделается, земле? Перележится, что ли? На энтот год, живы будем,
посеем.
— Как можно? Земля вхолостую пролежит.
— Фронты отслонются, тогда и сеять будете, — пробовал уговорить тещу Григорий.
Но та уперлась на своем, даже будто бы обиделась на Григория и под конец в оборочку
собрала дрогнувшие губы:
— Ну уж ежели тебе некогда, может, али охоты нету нам подсобить…
— Да ладно уж! Поеду завтра себе сеять и вам обсеменю десятины две. С вас и этого
хватит… А дед Гришака живой?
— То-то спасибо, кормилец! — обрадовалась просиявшая Лукинична. — Семена,
скажу ноне Грипашке, чтоб отвезла… Дед-то? Все никак его господь не приберет. Живой, а
кубыть, трошки умом начал мешаться. Так и сидит дни-ночи напролет, Святое писание
читает. Иной раз загутарит-загутарит, да так все непонятно, церковным языком… Ты бы
пошел его проведать. Он в горенке.
По полной щеке Натальи сползла слезинка.
Улыбаясь сквозь слезы, Наталья сказала:
— Зараз взошла я к нему, а он говорит: «Дщерь лукавая! Что же ты меня не
проведываешь? Скоро помру я, милушка… За тебя, за внученьку, как преставлюсь, богу
словцо замолвлю. В землю хочу, Натальюшка… Земля меня к себе кличет. Пора!»
Григорий вошел в горенку. Запах ладана, плесени и гнили, запах старого неопрятного
человека густо ударил ему в ноздри. Дед Гришака, все в том же армейском сером
мундирчике с красными петлицами на отворотах, сидел на лежанке. Широкие шаровары его
были аккуратно залатаны, шерстяные чулки заштопаны. Попечение о деде перешло на руки
подраставшей Грипашки, и та стала следить за ним с такой же внимательностью и любовью,
как некогда ходившая в девках Наталья.
Дед Гришака держал на коленях Библию. Из-под очков в позеленевшей медной оправе
он глянул на Григория, открыл в улыбке белозубый рот.
— Служивый? Целенький? Оборонил господь от лихой пули? Ну слава богу. Садись.
— Ты-то как здоровьем, дедушка?
— Ась?
— Как здоровье — говорю.
— Чудак! Пра слово, чудак! Какое в моих годах могет быть здоровье? Мне ить уж под
сто пошло. Да, под сто… Прожил — не видал. Кубыть, вчера ходил я с русым чубом,
молодой да здоровый. А ноне проснулся — и вот она, одна ветхость… Мельканула жизня,
как летний всполох, и нету ее… Немощен плотью стал. Домовина уж какой год в анбаре
стоит, а господь, видно, забыл про меня. Я уже иной раз, грешник, и взмолюсь ему:
«Обороти, господи, милостливый взор на раба твоего Григория! И я земле в тягость, и она
мне…»
— Ишо поживешь, дед. Зубов вон полон рот.
— Ась?
— Зубов ишо много!
— Зубов-то? Эка дурак! — осердился дед Гришака. — Зубами-то небось душу не
удержишь, как она соберется тело покидать… Ты-то все воюешь, непутевый?
— Воюю.
— Митюшка наш в оступе тоже, гляди, лиха хватит, как горячего — до слез.
— Хватит.