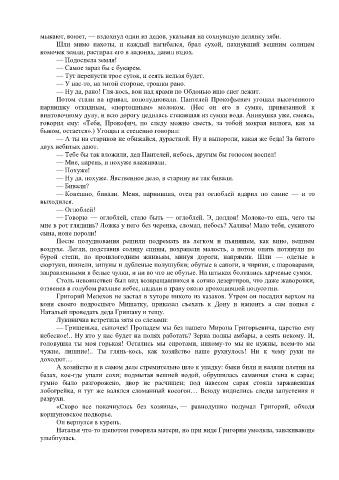Page 562 - Тихий Дон
P. 562
мыкают, воюет, — вздохнул один из дедов, указывая на сохнувшую делянку зяби.
Шли мимо пахоты, и каждый нагибался, брал сухой, пахнувший вешним солнцем
комочек земли, растирал его в ладонях, давил вздох.
— Подоспела земля!
— Самое зараз бы с букарем.
— Тут перепусти трое суток, и сеять нельзя будет.
— У нас-то, на энтой стороне, трошки рано.
— Ну да, рано! Гля-кось, вон над ярами по Обдонью ишо снег лежит.
Потом стали на привал, пополудновали. Пантелей Прокофьевич угощал высеченного
парнишку откидным, «портошным» молоком. (Нес он его в сумке, привязанной к
винтовочному дулу, и всю дорогу цедилась стекавшая из сумки вода. Аникушка уже, смеясь,
говорил ему: «Тебя, Прокофич, по следу можно свесть, за тобой мокрая вилюга, как за
быком, остается».) Угощал и степенно говорил:
— А ты на стариков не обижайся, дурастной. Ну и выпороли, какая же беда! За битого
двух небитых дают.
— Тебе бы так вложили, дед Пантелей, небось, другим бы голосом воспел!
— Мне, парень, и похуже влаживали.
— Похуже!
— Ну да, похуже. Явственное дело, в старину не так бивали.
— Бивали?
— Конешно, бивали. Меня, парнишша, отец раз оглоблей вдарил по спине — и то
выходился.
— Оглоблей!
— Говорю — оглоблей, стало быть — оглоблей. Э, долдон! Молоко-то ешь, чего ты
мне в рот глядишь? Ложка у него без черенка, сломал, небось? Халява! Мало тебя, сукиного
сына, ноне пороли!
После полуднования решили подремать на легком и пьянящем, как вино, вешнем
воздухе. Легли, подставив солнцу спины, похрапели малость, а потом опять потянули по
бурой степи, по прошлогодним жнивьям, минуя дороги, напрямик. Шли — одетые в
сюртуки, шинели, зипуны и дубленые полушубки; обутые в сапоги, в чирики, с шароварами,
заправленными в белые чулки, и ни во что не обутые. На штыках болтались харчевые сумки.
Столь невоинствен был вид возвращавшихся в сотню дезертиров, что даже жаворонки,
отзвенев в голубом разливе небес, падали в траву около проходившей полусотни.
Григорий Мелехов не застал в хуторе никого из казаков. Утром он посадил верхом на
коня своего подросшего Мишатку, приказал съехать к Дону и напоить а сам пошел с
Натальей проведать деда Гришаку и тещу.
Лукинична встретила зятя со слезами:
— Гришенька, сыночек! Пропадем мы без нашего Мирона Григорьевича, царство ему
небесное!.. Ну кто у нас будет на полях работать? Зерна полны амбары, а сеять некому. И,
головушка ты моя горькая! Остались мы сиротами, никому-то мы не нужны, всем-то мы
чужие, лишние!.. Ты глянь-кось, как хозяйство наше рухнулось! Ни к чему руки не
доходют…
А хозяйство и в самом деле стремительно шло к упадку: быки били и валяли плетни на
базах, кое-где упали сохи; подмытая вешней водой, обрушилась саманная стена в сарае;
гумно было разгорожено, двор не расчищен; под навесом сарая стояла заржавевшая
лобогрейка, и тут же валялся сломанный косогон… Всюду виднелись следы запустения и
разрухи.
«Скоро все покачнулось без хозяина», — равнодушно подумал Григорий, обходя
коршуновское подворье.
Он вернулся в курень.
Наталья что-то шепотом говорила матери, но при виде Григория умолкла, заискивающе
улыбнулась.