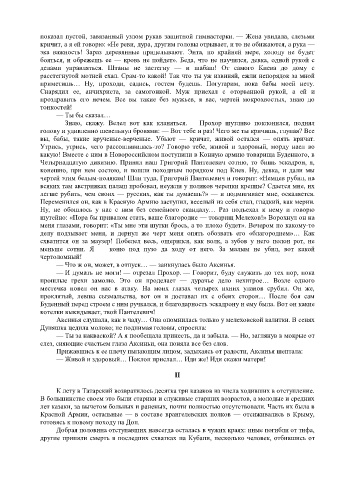Page 787 - Тихий Дон
P. 787
показал пустой, завязанный узлом рукав защитной гимнастерки. — Жена увидала, слезьми
кричит, а я ей говорю: «Не реви, дура, другим головы отрывает, и то не обижаются, а рука —
эка важность! Зараз деревянные приделывают. Энта, по крайней мере, холоду не будет
бояться, и обрежешь ее — кровь не пойдет». Беда, что не научился, девка, одной рукой с
делами управляться. Штаны не застегну — и шабаш! От самого Киева до дому с
расстегнутой мотней ехал. Срам-то какой! Так что ты уж извиняй, ежли непорядок за мной
приметишь… Ну, проходи, садись, гостем будешь. Погутарим, пока бабы моей нету.
Снарядил ее, анчихриста, за самогонкой. Муж приехал с оторванной рукой, а ей и
проздравить его нечем. Все вы такие без мужьев, я вас, чертей мокрохвостых, знаю до
тонкостей!
— Ты бы сказал…
— Знаю, скажу. Велел вот как кланяться. — Прохор шутливо поклонился, поднял
голову и удивленно шевельнул бровями: — Вот тебе и раз! Чего же ты кричишь, глупая? Все
вы, бабы, такие крученые-верченые. Убьют — кричат, живой остался — опять кричат.
Утрись, утрись, чего рассопливилась-то? Говорю тебе, живой и здоровый, морду наел во
какую! Вместе с ним в Новороссийском поступили в Конную армию товарища Буденного, в
Четырнадцатую дивизию. Принял наш Григорий Пантелевич сотню, то бишь эскадрон, я,
конешно, при нем состою, и пошли походным порядком под Киев. Ну, девка, и дали мы
чертей этим белым-полякам! Шли туда, Григорий Пантелевич и говорит: «Немцев рубил, на
всяких там австрияках палаш пробовал, неужли у поляков черепки крепше? Сдается мне, их
легше рубить, чем своих — русских, как ты думаешь?» — и подмигивает мне, оскаляется.
Переменился он, как в Красную Армию заступил, веселый из себя стал, гладкий, как мерин.
Ну, не обошлось у нас с ним без семейного скандалу… Раз подъехал к нему и говорю
шутейно: «Пора бы привалом стать, ваше благородие — товарищ Мелехов!» Ворохнул он на
меня глазами, говорит: «Ты мне эти шутки брось, а то плохо будет». Вечером по какому-то
делу подзывает меня, и дернул же черт меня опять обозвать его «благородием»… Как
схватится он за маузер! Побелел весь, ощерился, как волк, а зубов у него полон рот, не
меньше сотни. Я — коню под пузо да ходу от него. За малым не убил, вот какой
чертоломный!
— Что ж он, может, в отпуск… — заикнулась было Аксинья.
— И думать не моги! — отрезал Прохор. — Говорит, буду служить до тех пор, пока
прошлые грехи замолю. Это он проделает — дурачье дело нехитрое… Возле одного
местечка повел он нас в атаку. На моих глазах четырех ихних уланов срубил. Он же,
проклятый, левша сызмальства, вот он и доставал их с обеих сторон… После боя сам
Буденный перед строем с ним ручкался, и благодарность эскадрону и ему была. Вот он какие
котелки выкидывает, твой Пантелевич!
Аксинья слушала, как в чаду… Она опомнилась только у мелеховской калитки. В сенях
Дуняшка цедила молоко; не поднимая головы, спросила:
— Ты за накваской? А я пообещала принесть, да и забыла. — Но, заглянув в мокрые от
слез, сияющие счастьем глаза Аксиньи, она поняла все без слов.
Прижавшись к ее плечу пылающим лицом, задыхаясь от радости, Аксинья шептала:
— Живой и здоровый… Поклон прислал… Иди же! Иди скажи матери!
II
К лету в Татарский возвратилось десятка три казаков из числа ходивших в отступление.
В большинстве своем это были старики и служивые старших возрастов, а молодые и средних
лет казаки, за вычетом больных и раненых, почти полностью отсутствовали. Часть их была в
Красной Армии, остальные — в составе врангелевских полков — отсиживались в Крыму,
готовясь к новому походу на Дон.
Добрая половина отступавших навсегда осталась в чужих краях: иные погибли от тифа,
другие приняли смерть в последних схватках на Кубани, несколько человек, отбившись от