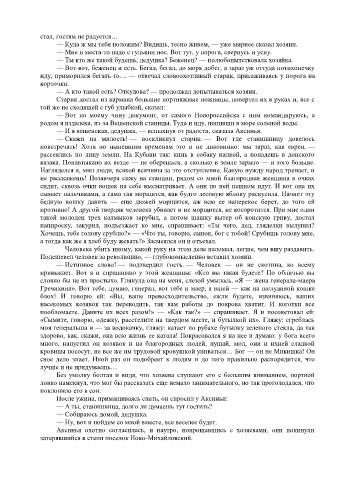Page 782 - Тихий Дон
P. 782
стал, гостям не радуется…
— Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно живем, — уже мирнее сказал хозяин.
— Мне и места-то надо с гулькин нос. Вот тут, у порога, свернусь и усну.
— Ты кто же такой будешь, дедушка? Беженец? — полюбопытствовала хозяйка.
— Вот-вот, беженец и есть. Бегал, бегал, до моря добег, а зараз уж оттуда потихонечку
иду, приморился бегать-то… — отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на
корточки.
— А кто такой есть? Откудова? — продолжал допытываться хозяин.
Старик достал из кармана большие портняжные ножницы, повертел их в руках и, все с
той же не сходящей с губ улыбкой, сказал:
— Вот по моему чину документ, от самого Новороссийска с ним командируюсь, а
родом я издалека, из-за Вешенской станицы. Туда и иду, попивши в море соленой воды.
— И я вешенская, дедушка, — вспыхнув от радости, сказала Аксинья.
— Скажи на милость! — воскликнул старик. — Вот где станишницу довелось
повстречать! Хотя по нынешним временам это и не диковинно: мы зараз, как евреи, —
рассеялись по лицу земли. На Кубани так: кинь в собаку палкой, а попадешь в донского
казака. Понавтыкано их везде — не оберешься, а сколько в земле зарыто — и того больше.
Нагляделся я, мил люди, всякой всячины за это отступление. Какую нужду народ трепает, и
не расскажешь! Позавчера сижу на станции, рядом со мной благородная женщина в очках
сидит, сквозь очки вошек на себе высматривает. А они по ней пешком идут. И вот она их
сымает пальчиками, а сама так морщится, как будто лесовую яблоку раскусила. Начнет эту
бедную вошку давить — еще дюжей морщится, аж всю ее наперекос берет, до того ей
противно! А другой твердяк человека убивает и не морщится, не косоротится. При мне один
такой молодец трех калмыков зарубил, а потом шашку вытер об конскую гриву, достал
папироску, закурил, подъезжает ко мне, спрашивает: «Ты чего, дед, гляделки вылупил?
Хочешь, тебе голову срублю?» — «Что ты, говорю, сынок, бог с тобой! Срубишь голову мне,
а тогда как же я хлеб буду жевать?» Засмеялся он и отъехал.
— Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легше, чем вшу раздавить.
Подешевел человек за революцию, — глубокомысленно вставил хозяин.
— Истинное слово! — подтвердил гость. — Человек — он не скотина, ко всему
привыкает. Вот я и спрашиваю у этой женщины: «Кто вы такая будете? По обличью вы
словно бы не из простых». Глянула она на меня, слезой умылась. «Я — жена генерала-маера
Гречихина». Вот тебе, думаю, генерал, вот тебе и маер, а вшей — как на шелудивой кошке
блох! И говорю ей: «Вы, ваше превосходительство, ежли будете, извиняюсь, ваших
насекомых козявок так переводить, так вам работы до покрова хватит. И коготки все
пообломаете. Давите их всех разом!» — «Как так?» — спрашивает. Я и посоветовал ей:
«Сымите, говорю, одежку, расстелите на твердом месте, и бутылкой их». Гляжу: сгреблась
моя генеральша и — за водокачку, гляжу: катает по рубахе бутылку зеленого стекла, да так
здорово, как, скажи, она всю жизнь ее катала! Покрасовался я на нее и думаю: у бога всего
много, напустил он козявок и на благородных людей, пущай, мол, они и ихней сладкой
кровицы пососут, не все же им трудовой кровушкой упиваться… Бог — он не Микишка! Он
свое дело знает. Иной раз он подобреет к людям и до того правильно распорядится, что
лучше и не придумаешь…
Без умолку болтая и видя, что хозяева слушают его с большим вниманием, портной
ловко намекнул, что мог бы рассказать еще немало занимательного, но так проголодался, что
поклонило его в сон.
После ужина, примащиваясь спать, он спросил у Аксиньи:
— А ты, станишница, долго ли думаешь тут гостить?
— Собираюсь домой, дедушка.
— Ну, вот и пойдем со мной вместе, все веселее будет.
Аксинья охотно согласилась, и наутро, попрощавшись с хозяевами, они покинули
затерявшийся в степи поселок Ново-Михайловский.