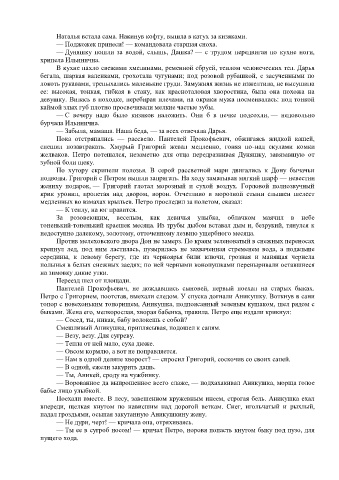Page 81 - Тихий Дон
P. 81
Наталья встала сама. Накинув кофту, вышла в катух за кизяками.
— Поджожек принеси! — командовала старшая сноха.
— Дуняшку пошли за водой, слышь, Дашка? — с трудом передвигая по кухне ноги,
хрипела Ильинична.
В кухне пахло свежими хмелинами, ременной сбруей, теплом человеческих тел. Дарья
бегала, шаркая валенками, грохотала чугунами; под розовой рубашкой, с засученными по
локоть рукавами, трепыхались маленькие груди. Замужняя жизнь не изжелтила, не высушила
ее: высокая, тонкая, гибкая в стану, как красноталовая хворостина, была она похожа на
девушку. Вилась в походке, перебирая плечами, на окрики мужа посмеивалась: под тонкой
каймой злых губ плотно просвечивали мелкие частые зубы.
— С вечеру надо было кизяков наложить. Они б в печке подсохли, — недовольно
бурчала Ильинична.
— Забыла, мамаша. Наша беда, — за всех отвечала Дарья.
Пока отстряпались — рассвело. Пантелей Прокофьевич, обжигаясь жидкой кашей,
спешил позавтракать. Хмурый Григорий жевал медленно, гоняя по-над скулами комки
желваков. Петро потешался, незаметно для отца передразнивая Дуняшку, завязавшую от
зубной боли щеку.
По хутору скрипели полозья. В серой рассветной мари двигались к Дону бычачьи
подводы. Григорий с Петром вышли запрягать. На ходу заматывая мягкий шарф — невестин
жениху подарок, — Григорий глотал морозный и сухой воздух. Горловой полнозвучный
крик уронил, пролетая над двором, ворон. Отчетливо в морозной стыни слышен шелест
медленных во взмахах крыльев. Петро проследил за полетом, сказал:
— К теплу, на юг правится.
За розовеющим, веселым, как девичья улыбка, облачком маячил в небе
тоненький-тоненький краешек месяца. Из трубы дыбом вставал дым и, безрукий, тянулся к
недоступно далекому, золотому, отточенному лезвию ущербного месяца.
Против мелеховского двора Дон не замерз. По краям зеленоватый в снежных переносах
крепнул лед, под ним ластилась, пузырилась не захваченная стременем вода, а подальше
середины, к левому берегу, где из черноярья били ключи, грозная и манящая чернела
полынья в белых снежных заедях; по ней черными конопушками переныривали оставшиеся
на зимовку дикие утки.
Переезд шел от площади.
Пантелей Прокофьевич, не дождавшись сыновей, первый поехал на старых быках.
Петро с Григорием, поотстав, выехали следом. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в сани
топор с новехоньким топорищем, Аникушка, подпоясанный зеленым кушаком, шел рядом с
быками. Жена его, мелкорослая, хворая бабенка, правила. Петро еще издали крикнул:
— Сосед, ты, никак, бабу волокешь с собой?
Смешливый Аникушка, приплясывая, подошел к саням.
— Везу, везу. Для сугреву.
— Тепла от ней мало, суха дюже.
— Овсом кормлю, а вот не поправляется.
— Нам в одной деляне хворост? — спросил Григорий, соскочив со своих саней.
— В одной, ежели закурить дашь.
— Ты, Аникей, сроду на чужбинку.
— Ворованное да выпрошенное всего слаже, — подхахакивал Аникушка, морща голое
бабье лицо улыбкой.
Поехали вместе. В лесу, завешенном кружевным инеем, строгая бель. Аникушка ехал
впереди, щелкая кнутом по нависшим над дорогой веткам. Снег, игольчатый и рыхлый,
падал гроздьями, осыпая закутанную Аникушкину жену.
— Не дури, черт! — кричала она, отряхиваясь.
— Ты ее в сугроб носом! — кричал Петро, норовя попасть кнутом быку под пузо, для
пущего хода.