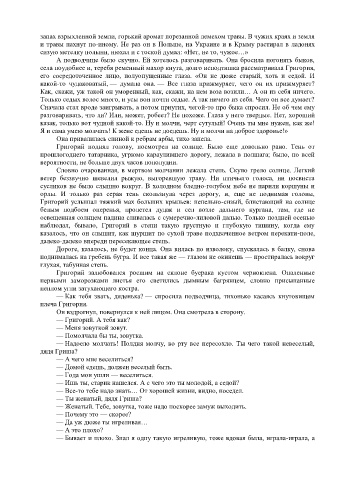Page 812 - Тихий Дон
P. 812
запах взрыхленной земли, горький аромат порезанной лемехом травы. В чужих краях и земля
и травы пахнут по-иному. Не раз он в Польше, на Украине и в Крыму растирал в ладонях
сизую метелку полыни, нюхал и с тоской думал: «Нет, не то, чужое…»
А подводчице было скучно. Ей хотелось разговаривать. Она бросила погонять быков,
села поудобнее и, теребя ременный махор кнута, долго исподтишка рассматривала Григория,
его сосредоточенное лицо, полуопущенные глаза. «Он не дюже старый, хоть и седой. И
какой-то чудаковатый, — думала она. — Все глаза прижмуряет, чего он их прижмуряет?
Как, скажи, уж такой он уморенный, как, скажи, на нем воза возили… А он из себя ничего.
Только седых волос много, и усы вон почти седые. А так ничего из себя. Чего он все думает?
Сначала стал вроде заигрывать, а потом приутих, чегой-то про быка спросил. Не об чем ему
разговаривать, что ли? Или, может, робеет? Не похоже. Глаза у него твердые. Нет, хороший
казак, только вот чудной какой-то. Ну и молчи, черт сутулый! Очень ты мне нужен, как же!
Я и сама умею молчать! К жене едешь не доедешь. Ну и молчи на доброе здоровье!»
Она привалилась спиной к ребрам арбы, тихо запела.
Григорий поднял голову, посмотрел на солнце. Было еще довольно рано. Тень от
прошлогоднего татарника, угрюмо караулившего дорогу, лежала в полшага; было, по всей
вероятности, не больше двух часов пополудни.
Словно очарованная, в мертвом молчании лежала степь. Скупо грело солнце. Легкий
ветер беззвучно шевелил рыжую, выгоревшую траву. Ни птичьего голоса, ни посвиста
сусликов не было слышно вокруг. В холодном бледно-голубом небе не парили коршуны и
орлы. И только раз серая тень скользнула через дорогу, и, еще не поднимая головы,
Григорий услышал тяжкий мах больших крыльев: пепельно-сизый, блистающий на солнце
белым подбоем оперенья, пролетел дудак и сел возле дальнего кургана, там, где не
освещенная солнцем падина сливалась с сумеречно-лиловой далью. Только поздней осенью
наблюдал, бывало, Григорий в степи такую грустную и глубокую тишину, когда ему
казалось, что он слышит, как шуршит по сухой траве подхваченное ветром перекати-поле,
далеко-далеко впереди пересекающее степь.
Дороге, казалось, не будет конца. Она вилась по изволоку, спускалась в балку, снова
поднималась на гребень бугра. И все такая же — глазом не окинешь — простиралась вокруг
глухая, табунная степь.
Григорий залюбовался росшим на склоне буерака кустом черноклена. Опаленные
первыми заморозками листья его светились дымным багрянцем, словно присыпанные
пеплом угли затухающего костра.
— Как тебя звать, дяденька? — спросила подводчица, тихонько касаясь кнутовищем
плеча Григория.
Он вздрогнул, повернулся к ней лицом. Она смотрела в сторону.
— Григорий. А тебя как?
— Меня зовуткой зовут.
— Помолчала бы ты, зовутка.
— Надоело молчать! Полдня молчу, во рту все пересохло. Ты чего такой невеселый,
дядя Гриша?
— А чего мне веселиться?
— Домой едешь, должен веселый быть.
— Года мои ушли — веселиться.
— Ишь ты, старик нашелся. А с чего это ты молодой, а седой?
— Все-то тебе надо знать… От хорошей жизни, видно, поседел.
— Ты женатый, дядя Гриша?
— Женатый. Тебе, зовутка, тоже надо поскорее замуж выходить.
— Почему это — скорее?
— Да уж дюже ты игреливая…
— А это плохо?
— Бывает и плохо. Знал я одну такую игреливую, тоже вдовая была, играла-играла, а