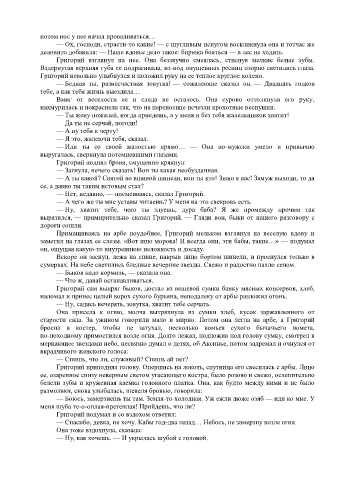Page 813 - Тихий Дон
P. 813
потом нос у нее начал проваливаться…
— Ох, господи, страсти-то какие! — с шутливым испугом воскликнула она и тотчас же
деловито добавила: — Наше вдовье дело такое: бирюка бояться — в лес не ходить.
Григорий взглянул на нее. Она беззвучно смеялась, стиснув мелкие белые зубы.
Вздернутая верхняя губа ее подрагивала, из-под опущенных ресниц озорно светились глаза.
Григорий невольно улыбнулся и положил руку на ее теплое круглое колено.
— Бедная ты, разнесчастная зовутка! — сожалеюще сказал он. — Двадцать годков
тебе, а как тебя жизнь выездила…
Вмиг от веселости ее и следа не осталось. Она сурово оттолкнула его руку,
нахмурилась и покраснела так, что на переносице исчезли крохотные веснушки.
— Ты жену пожалей, когда приедешь, а у меня и без тебя жалельщиков хватит!
— Да ты не серчай, погоди!
— А ну тебя к черту!
— Я это, жалеючи тебя, сказал.
— Иди ты со своей жалостью прямо… — Она по-мужски умело и привычно
выругалась, сверкнула потемневшими глазами.
Григорий поднял брови, смущенно крякнул:
— Загнула, нечего сказать! Вон ты какая необузданная.
— А ты какой? Святой во вшивой шинели, вон ты кто! Знаю я вас! Замуж выходи, то да
се, а давно ты таким истовым стал?
— Нет, недавно, — посмеиваясь, сказал Григорий.
— А чего же ты мне уставы читаешь? У меня на это свекровь есть.
— Ну, хватит тебе, чего ты злуешь, дура баба? Я же промежду прочим так
выразился, — примирительно сказал Григорий. — Гляди вон, быки от нашего разговору с
дороги сошли.
Примащиваясь на арбе поудобнее, Григорий мельком взглянул на веселую вдову и
заметил на глазах ее слезы. «Вот ишо морока! И всегда они, эти бабы, такие…» — подумал
он, ощущая какую-то внутреннюю неловкость и досаду.
Вскоре он заснул, лежа на спине, накрыв лицо бортом шинели, и проснулся только в
сумерках. На небе светились бледные вечерние звезды. Свежо и радостно пахло сеном.
— Быков надо кормить, — сказала она.
— Что ж, давай останавливаться.
Григорий сам выпряг быков, достал из вещевой сумки банку мясных консервов, хлеб,
наломал и принес целый ворох сухого бурьяна, неподалеку от арбы разложил огонь.
— Ну, садись вечерять, зовутка, хватит тебе серчать.
Она присела к огню, молча вытряхнула из сумки хлеб, кусок заржавленного от
старости сала. За ужином говорили мало и мирно. Потом она легла на арбе, а Григорий
бросил в костер, чтобы не затухал, несколько комьев сухого бычачьего помета,
по-походному примостился возле огня. Долго лежал, подложив под голову сумку, смотрел в
мерцающее звездами небо, несвязно думал о детях, об Аксинье, потом задремал и очнулся от
вкрадчивого женского голоса:
— Спишь, что ли, служивый? Спишь ай нет?
Григорий приподнял голову. Опершись на локоть, спутница его свесилась с арбы. Лицо
ее, озаренное снизу неверным светом угасающего костра, было розово и свежо, ослепительно
белели зубы и кружевная каемка головного платка. Она, как будто между ними и не было
размолвки, снова улыбалась, шевеля бровью, говорила:
— Боюсь, замерзнешь ты там. Земля-то холодная. Уж ежли дюже озяб — иди ко мне. У
меня шуба те-о-оплая-претеплая! Прийдешь, что ли?
Григорий подумал и со вздохом ответил:
— Спасибо, девка, не хочу. Кабы год-два назад… Небось, не замерзну возле огня.
Она тоже вздохнула, сказала:
— Ну, как хочешь. — И укрылась шубой с головой.