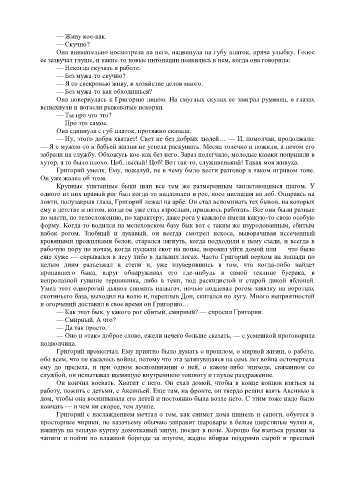Page 811 - Тихий Дон
P. 811
— Живу кое-как.
— Скучно?
Она внимательно посмотрела на него, надвинула на губу платок, пряча улыбку. Голос
ее зазвучал глуше, и какие-то новые интонации появились в нем, когда она говорила:
— Некогда скучать в работе.
— Без мужа-то скучно?
— Я со свекровью живу, в хозяйстве делов много.
— Без мужа-то как обходишься?
Она повернулась к Григорию лицом. На смуглых скулах ее заиграл румянец, в глазах
вспыхнули и погасли рыжеватые искорки.
— Ты про что это?
— Про это самое.
Она сдвинула с губ платок, протяжно сказала:
— Ну, этого добра хватает! Свет не без добрых людей… — И, помолчав, продолжала:
— Я с мужем-то и бабьей жизни не успела раскушать. Месяц толечко и пожили, а потом его
забрали на службу. Обхожусь кое-как без него. Зараз полегчало, молодые казаки попришли в
хутор, а то было плохо. Цоб, лысый! Цоб! Вот так-то, служивенький! Такая моя живуха.
Григорий умолк. Ему, пожалуй, не к чему было вести разговор в таком игривом тоне.
Он уже жалел об этом.
Крупные упитанные быки шли все тем же размеренным заплетающимся шагом. У
одного из них правый рог был когда-то надломлен и рос, косо ниспадая на лоб. Опираясь на
локти, полузакрыв глаза, Григорий лежал на арбе. Он стал вспоминать тех быков, на которых
ему в детстве и потом, когда он уже стал взрослым, пришлось работать. Все они были разные
по масти, по телосложению, по характеру, даже рога у каждого имели какую-то свою особую
форму. Когда-то водился на мелеховском базу бык вот с таким же изуродованным, сбитым
набок рогом. Злобный и лукавый, он всегда смотрел искоса, выворачивая иссеченный
кровяными прожилками белок, старался лягнуть, когда подходили к нему сзади, и всегда в
рабочую пору по ночам, когда пускали скот на попас, норовил уйти домой или — что было
еще хуже — скрывался в лесу либо в дальних логах. Часто Григорий верхом на лошади по
целым дням разъезжал в степи и, уже изуверившись в том, что когда-либо найдет
пропавшего быка, вдруг обнаруживал его где-нибудь в самой теклине буерака, в
непролазной гущине терновника, либо в тени, под раскидистой и старой дикой яблоней.
Умел этот однорогий дьявол снимать налыгач, ночью поддевал рогом завязку на воротцах
скотиньего база, выходил на волю и, переплыв Дон, скитался по лугу. Много неприятностей
и огорчений доставил в свое время он Григорию…
— Как этот бык, у какого рог сбитый, смирный? — спросил Григории.
— Смирный. А что?
— Да так просто.
— Оно и «так» доброе слово, ежели нечего больше сказать, — с усмешкой проговорила
подводчица.
Григорий промолчал. Ему приятно было думать о прошлом, о мирной жизни, о работе,
обо всем, что не касалось войны, потому что эта затянувшаяся на семь лет война осточертела
ему до предела, и при одном воспоминании о ней, о каком-либо эпизоде, связанном со
службой, он испытывал щемящую внутреннюю тошноту и глухое раздражение.
Он кончил воевать. Хватит с него. Он ехал домой, чтобы в конце концов взяться за
работу, пожить с детьми, с Аксиньей. Еще там, на фронте, он твердо решил взять Аксинью в
дом, чтобы она воспитывала его детей и постоянно была возле него. С этим тоже надо было
кончать — и чем ни скорее, тем лучше.
Григорий с наслаждением мечтал о том, как снимет дома шинель и сапоги, обуется в
просторные чирики, по казачьему обычаю заправит шаровары в белые шерстяные чулки и,
накинув на теплую куртку домотканый зипун, поедет в поле. Хорошо бы взяться руками за
чапиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный