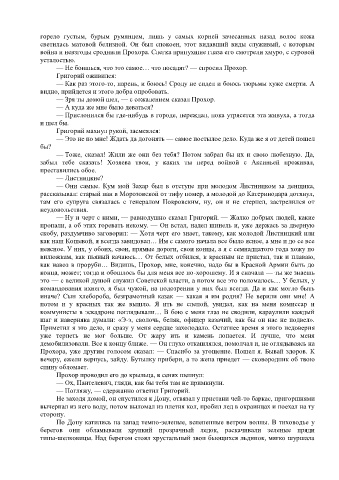Page 824 - Тихий Дон
P. 824
горело густым, бурым румянцем, лишь у самых корней зачесанных назад волос кожа
светилась матовой белизной. Он был спокоен, этот видавший виды служивый, с которым
война и невзгоды сроднили Прохора. Слегка припухшие глаза его смотрели хмуро, с суровой
усталостью.
— Не боишься, что это самое… что посадят? — спросил Прохор.
Григорий оживился:
— Как раз этого-то, парень, и боюсь! Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А
видно, прийдется и этого добра опробовать.
— Зря ты домой шел, — с сожалением сказал Прохор.
— А куда же мне было деваться?
— Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха, а тогда
и шел бы.
Григорий махнул рукой, засмеялся:
— Это не по мне! Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел
бы?
— Тоже, сказал! Жили же они без тебя? Потом забрал бы их и свою любезную. Да,
забыл тебе сказать! Хозяева твои, у каких ты перед войной с Аксиньей проживал,
преставились обое.
— Листницкие?
— Они самые. Кум мой Захар был в отступе при молодом Листницком за денщика,
рассказывал: старый пан в Морозовской от тифу помер, а молодой до Катеринодара дотянул,
там его супруга связалась с генералом Покровским, ну, он и не стерпел, застрелился от
неудовольствия.
— Ну и черт с ними, — равнодушно сказал Григорий. — Жалко добрых людей, какие
пропали, а об этих горевать некому. — Он встал, надел шинель и, уже держась за дверную
скобу, раздумчиво заговорил: — Хотя черт его знает, такому, как молодой Листницкий или
как наш Кошевой, я всегда завидовал… Им с самого начала все было ясное, а мне и до се все
неясное. У них, у обоих, свои, прямые дороги, свои концы, а я с семнадцатого года хожу по
вилюжкам, как пьяный качаюсь… От белых отбился, к красным не пристал, так и плаваю,
как навоз в проруби… Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной Армии быть до
конца, может; тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала — ты же знаешь
это — с великой душой служил Советской власти, а потом все это поломалось… У белых, у
командования ихнего, я был чужой, на подозрении у них был всегда. Да и как могло быть
иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак — какая я им родня? Не верили они мне! А
потом и у красных так же вышло. Я ить не слепой, увидал, как на меня комиссар и
коммунисты в эскадроне поглядывали… В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый
шаг и наверняка думали: «Э-э, сволочь, беляк, офицер казачий, как бы он нас не подвел».
Приметил я это дело, и сразу у меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия
уже терпеть не мог больше. От жару ить и камень лопается. И лучше, что меня
демобилизовали. Все к концу ближе. — Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на
Прохора, уже другим голосом сказал: — Спасибо за угощение. Пошел я. Бывай здоров. К
вечеру, ежели вернусь, зайду. Бутылку прибери, а то жена приедет — сковородник об твою
спину обломает.
Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул:
— Ох, Пантелевич, гляди, как бы тебя там не примкнули.
— Погляжу, — сдержанно ответил Григорий.
Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то баркас, пригоршнями
вычерпал из него воду, потом выломал из плетня кол, пробил лед в окраинцах и поехал на ту
сторону.
По Дону катились на запад темно-зеленые, вспененные ветром волны. В тиховодье у
берегов они обламывали хрупкий прозрачный ледок, раскачивали зеленые пряди
тины-шелковицы. Над берегом стоял хрустальный звон бьющихся льдинок, мягко шуршала