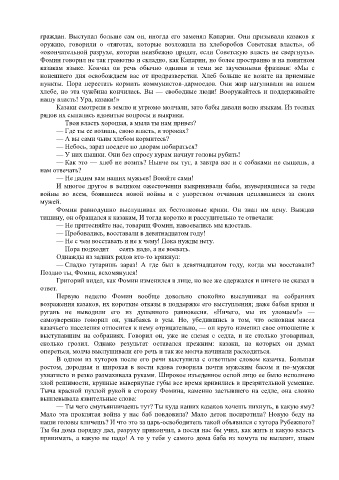Page 847 - Тихий Дон
P. 847
граждан. Выступал больше сам он, иногда его заменял Капарин. Они призывали казаков к
оружию, говорили о «тяготах, которые возложила на хлеборобов Советская власть», об
«окончательной разрухе, которая неизбежно придет, если Советскую власть не свергнуть».
Фомин говорил не так грамотно и складно, как Капарин, но более пространно и на понятном
казакам языке. Кончал он речь обычно одними и теми же заученными фразами: «Мы с
нонешнего дня освобождаем вас от продразверстки. Хлеб больше не возите на приемные
пункты. Пора перестать кормить коммунистов-дармоедов. Они жир нагуливали на вашем
хлебе, но эта чужбина кончилась. Вы — свободные люди! Вооружайтесь и поддерживайте
нашу власть! Ура, казаки!»
Казаки смотрели в землю и угрюмо молчали, зато бабы давали волю языкам. Из тесных
рядов их сыпались ядовитые вопросы и выкрики.
— Твоя власть хорошая, а мыла ты нам привез?
— Где ты ее возишь, свою власть, в тороках?
— А вы сами чьим хлебом кормитесь?
— Небось, зараз поедете по дворам побираться?
— У них шашки. Они без спросу курам начнут головы рубить!
— Как это — хлеб не возить? Нынче вы тут, а завтра вас и с собаками не сыщешь, а
нам отвечать?
— Не дадим вам наших мужьев! Воюйте сами!
И многое другое в великом ожесточении выкрикивали бабы, изуверившиеся за годы
войны во всем, боявшиеся новой войны и с упорством отчаяния цеплявшиеся за своих
мужей.
Фомин равнодушно выслушивал их бестолковые крики. Он знал им цену. Выждав
тишину, он обращался к казакам, И тогда коротко и рассудительно те отвечали:
— Не притесняйте нас, товарищ Фомин, навоевались мы вдосталь.
— Пробовались, восставали в девятнадцатом году!
— Не с чем восставать и не к чему! Пока нужды нету.
— Пора подходит — сеять надо, а не воевать.
Однажды из задних рядов кто-то крикнул:
— Сладко гутаришь зараз! А где был в девятнадцатом году, когда мы восставали?
Поздно ты, Фомин, всхомянулся!
Григорий видел, как Фомин изменился в лице, но все же сдержался и ничего не сказал в
ответ.
Первую неделю Фомин вообще довольно спокойно выслушивал на собраниях
возражения казаков, их короткие отказы в поддержке его выступления; даже бабьи крики и
ругань не выводили его из душевного равновесия. «Ничего, мы их уломаем!» —
самоуверенно говорил он, улыбаясь в усы. Но, убедившись в том, что основная масса
казачьего населения относится к нему отрицательно, — он круто изменил свое отношение к
выступавшим на собраниях. Говорил он, уже не слезая с седла, и не столько уговаривал,
сколько грозил. Однако результат оставался прежним: казаки, на которых он думал
опереться, молча выслушивали его речь и так же молча начинали расходиться.
В одном из хуторов после его речи выступила с ответным словом казачка. Большая
ростом, дородная и широкая в кости вдова говорила почти мужским басом и по-мужски
ухватисто и резко размахивала руками. Широкое изъеденное оспой лицо ее было исполнено
злой решимости, крупные вывернутые губы все время кривились в презрительной усмешке.
Тыча красной пухлой рукой в сторону Фомина, каменно застывшего на седле, она словно
выплевывала язвительные слова:
— Ты чего смутьянничаешь тут? Ты куда наших казаков хочешь пихнуть, в какую яму?
Мало эта проклятая война у нас баб повдовила? Мало деток посиротила? Новую беду на
наши головы кличешь? И что это за царь-освободитель такой объявился с хутора Рубежного?
Ты бы дома порядку дал, разруху прикончил, а посля нас бы учил, как жить и какую власть
принимать, а какую не надо! А то у тебя у самого дома баба из хомута не вылазит, знаем