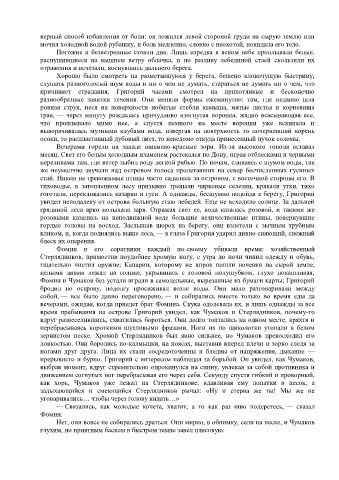Page 856 - Тихий Дон
P. 856
верный способ избавления от боли: он ложился левой стороной груди на сырую землю или
мочил холодной водой рубашку, и боль медленно, словно с неохотой, покидала его тело.
Погожие и безветренные стояли дни. Лишь изредка в ясном небе проплывали белые,
распушившиеся на вышнем ветру облачка, и по разливу лебединой стаей скользили их
отражения и исчезали, коснувшись дальнего берега.
Хорошо было смотреть на разметавшуюся у берега, бешено клокочущую быстрину,
слушать разноголосый шум воды и ни о чем не думать, стараться не думать ни о чем, что
причиняет страдания. Григорий часами смотрел на прихотливые и бесконечно
разнообразные завитки течения. Они меняли формы ежеминутно: там, где недавно шла
ровная струя, неся на поверхности побитые стебли камыша, мятые листья и корневища
трав, — через минуту рождалась причудливо изогнутая воронка, жадно всасывающая все,
что проплывало мимо нее, а спустя немного на месте воронки уже вскипала и
выворачивалась мутными клубами вода, извергая на поверхность то почерневший корень
осоки, то распластанный дубовый лист, то неведомо откуда принесенный пучок соломы.
Вечерами горели на западе вишнево-красные зори. Из-за высокого тополя вставал
месяц. Свет его белым холодным пламенем растекался по Дону, играя отблесками и черными
переливами там, где ветер зыбил воду легкой рябью. По ночам, сливаясь с шумом воды, так
же неумолчно звучали над островом голоса пролетавших на север бесчисленных гусиных
стай. Никем не тревожимые птицы часто садились за островом, с восточной стороны его. В
тиховодье, в затопленном лесу призывно трещали чирковые селезни, крякали утки, тихо
гоготали, перекликались казарки и гуси. А однажды, бесшумно подойдя к берегу, Григорий
увидел неподалеку от острова большую стаю лебедей. Еще не всходило солнце. За дальней
грядиной леса ярко полыхала заря. Отражая свет ее, вода казалась розовой, и такими же
розовыми казались на неподвижной воде большие величественные птицы, повернувшие
гордые головы на восход. Заслышав шорох на берегу, они взлетели с зычным трубным
кликом, и, когда поднялись выше леса, — в глаза Григория ударил дивно сияющий, снежный
блеск их оперения.
Фомин и его соратники каждый по-своему убивали время: хозяйственный
Стерлядников, примостив поудобнее хромую ногу, с утра до ночи чинил одежду и обувь,
тщательно чистил оружие; Капарин, которому не впрок пошли ночевки на сырой земле,
целыми днями лежал на солнце, укрывшись с головой полушубком, глухо покашливая;
Фомин и Чумаков без устали играли в самодельные, вырезанные из бумаги карты; Григорий
бродил по острову, подолгу просиживал возле воды. Они мало разговаривали между
собой, — все было давно переговорено, — и собирались вместе только во время еды да
вечерами, ожидая, когда приедет брат Фомина. Скука одолевала их, и лишь однажды за все
время пребывания на острове Григорий увидел, как Чумаков и Стерлядников, почему-то
вдруг развеселившись, схватились бороться. Они долго топтались на одном месте, кряхтя и
перебрасываясь короткими шутливыми фразами. Ноги их по щиколотки утопали в белом
зернистом песке. Хромой Стерлядников был явно сильнее, но Чумаков превосходил его
ловкостью. Они боролись по-калмыцки, на поясах, выставив вперед плечи и зорко следя за
ногами друг друга. Лица их стали сосредоточенны и бледны от напряжения, дыхание —
прерывисто и бурно. Григорий с интересом наблюдал за борьбой. Он увидел, как Чумаков,
выбрав момент, вдруг стремительно опрокинулся на спину, увлекая за собой противника и
движением согнутых ног перебрасывая его через себя. Секунду спустя гибкий и проворный,
как хорь, Чумаков уже лежал на Стерлядникове, вдавливая ему лопатки в песок, а
задыхающийся и смеющийся Стерлядников рычал: «Ну и стерва же ты! Мы же не
уговаривались… чтобы через голову кидать…»
— Связались, как молодые кочета, хватит, а то как раз ишо подеретесь, — сказал
Фомин.
Нет, они вовсе не собирались драться. Они мирно, в обнимку, сели на песке, и Чумаков
глухим, но приятным баском в быстром темпе завел плясовую: