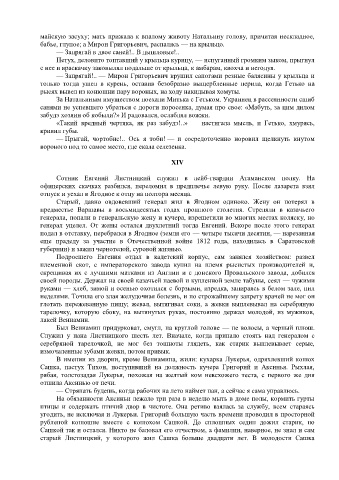Page 95 - Тихий Дон
P. 95
майскую засуху; мать прижала к впалому животу Натальину голову, причитая нескладное,
бабье, глупое; а Мирон Григорьевич, распалясь — на крыльцо.
— Запрягай в двое саней!.. В дышловые!..
Петух, деловито топтавший у крыльца курицу, — испуганный громким зыком, прыгнул
с нее и враскачку заковылял подальше от крыльца, к амбарам, квохча и негодуя.
— Запрягай!.. — Мирон Григорьевич крушил сапогами резные балясины у крыльца и
только тогда ушел в курень, оставив безобразно выщербленные перила, когда Гетько на
рысях вывел из конюшни пару вороных, на ходу накидывая хомуты.
За Натальиным имуществом поехали Митька с Гетьком. Украинец в рассеянности сшиб
санями не успевшего убраться с дороги поросенка, думая про свое: «Мабуть, за цим дилом
забудэ хозяин об кобыли?» И радовался, ослаблял вожжи.
«Такий вредный чертяка, як раз забудэ!..» — настигала мысль, и Гетько, хмурясь,
кривил губы.
— Прыгай, чортобис!.. Ось я тоби! — и сосредоточенно норовил щелкнуть кнутом
вороного под то самое место, где екала селезенка.
XIV
Сотник Евгений Листницкий служил в лейб-гвардии Атаманском полку. На
офицерских скачках разбился, переломил в предплечье левую руку. После лазарета взял
отпуск и уехал в Ягодное к отцу на полтора месяца.
Старый, давно овдовевший генерал жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в
предместье Варшавы в восьмидесятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего
генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетили во многих местах коляску, но
генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал
подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его — четыре тысячи десятин, — нарезанная
еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской
губернии) и зажил чернотелой, суровой жизнью.
Подросшего Евгения отдал в кадетский корпус, сам занялся хозяйством: развел
племенной скот, с императорского завода купил на племя рысистых производителей и,
скрещивая их с лучшими матками из Англии и с донского Провальского завода, добился
своей породы. Держал на своей казачьей паевой и купленной земле табуны, сеял — чужими
руками — хлеб, зимой и осенью охотился с борзыми, изредка, запираясь в белом зале, пил
неделями. Точила его злая желудочная болезнь, и по строжайшему запрету врачей не мог он
глотать пережеванную пищу; жевал, вытягивал соки, а жевки выплевывал на серебряную
тарелочку, которую сбоку, на вытянутых руках, постоянно держал молодой, из мужиков,
лакей Вениамин.
Был Вениамин придурковат, смугл, на круглой голове — не волосы, а черный плюш.
Служил у пана Листницкого шесть лет. Вначале, когда припало стоять над генералом с
серебряной тарелочкой, не мог без тошноты глядеть, как старик выплевывает серые,
измочаленные зубами жевки, потом привык.
В имении из дворни, кроме Вениамина, жили: кухарка Лукерья, одряхлевший конюх
Сашка, пастух Тихон, поступивший на должность кучера Григорий и Аксинья. Рыхлая,
рябая, толстозадая Лукерья, похожая на желтый ком невсхожего теста, с первого же дня
отшила Аксинью от печи.
— Стряпать будешь, когда рабочих на лето наймет пан, а сейчас я сама управлюсь.
На обязанности Аксиньи лежало три раза в неделю мыть в доме полы, кормить гурты
птицы и содержать птичий двор в чистоте. Она ретиво взялась за службу, всем стараясь
угодить, не исключая и Лукерьи. Григорий большую часть времени проводил в просторной
рубленой конюшне вместе с конюхом Сашкой. До сплошных седин дожил старик, но
Сашкой так и остался. Никто не баловал его отчеством, а фамилии, наверное, не знал и сам
старый Листницкий, у которого жил Сашка больше двадцати лет. В молодости Сашка