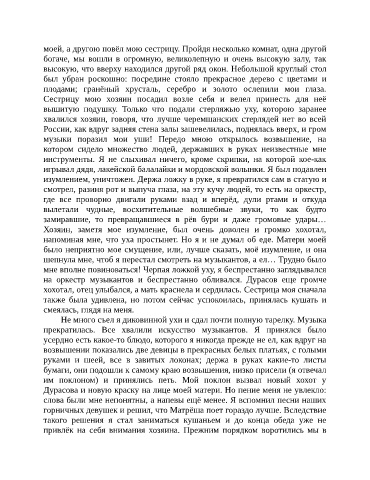Page 214 - «Детские годы Багрова-внука»
P. 214
моей, а другою повёл мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой
богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так
высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол
был убран роскошно: посредине стояло прекрасное дерево с цветами и
плодами; гранёный хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза.
Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принесть для неё
вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которою заранее
хвалился хозяин, говоря, что лучше черемшанских стерлядей нет во всей
России, как вдруг задняя стена залы зашевелилась, поднялась вверх, и гром
музыки поразил мои уши! Передо мною открылось возвышение, на
котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне
инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как
игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подавлен
изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и
смотрел, разиня рот и выпуча глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр,
где все проворно двигали руками взад и вперёд, дули ртами и откуда
вылетали чудные, восхитительные волшебные звуки, то как будто
замиравшие, то превращавшиеся в рёв бури и даже громовые удары…
Хозяин, заметя мое изумление, был очень доволен и громко хохотал,
напоминая мне, что уха простынет. Но я и не думал об еде. Матери моей
было неприятно мое смущение, или, лучше сказать, моё изумление, и она
шепнула мне, чтоб я перестал смотреть на музыкантов, а ел… Трудно было
мне вполне повиноваться! Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывался
на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче
хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала
также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и
смеялась, глядя на меня.
Не много съел я диковинной ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка
прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было
усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел, как вдруг на
возвышении показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми
руками и шеей, все в завитых локонах; держа в руках какие-то листы
бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели (я отвечал
им поклоном) и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у
Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло:
слова были мне непонятны, а напевы ещё менее. Я вспомнил песни наших
горничных девушек и решил, что Матрёша поет гораздо лучше. Вследствие
такого решения я стал заниматься кушаньем и до конца обеда уже не
привлёк на себя внимания хозяина. Прежним порядком воротились мы в