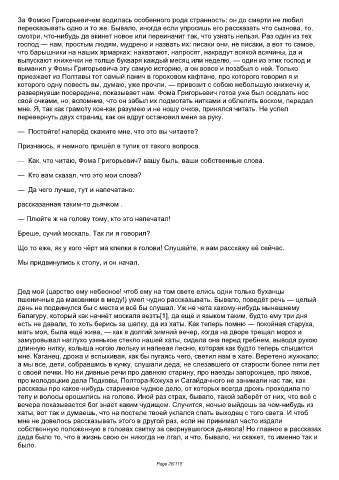Page 26 - Вечера на хуторе близ Диканьки
P. 26
За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил
пересказывать одно и то же. Бывало, иногда если упросишь его рассказать что сызнова, то,
смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех
господ — нам, простым людям, мудрено и назвать их: писаки они, не писаки, а вот то самое,
что барышники на наших ярмарках: нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и
выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, — один из этих господ и
выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только
приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и
которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, — привозит с собою небольшую книжечку и,
развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос
свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал
мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел
перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку.
— Постойте! наперёд скажите мне, что это вы читаете?
Признаюсь, я немного пришёл в тупик от такого вопроса.
— Как, что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.
— Кто вам сказал, что это мои слова?
— Да чего лучше, тут и напечатано:
рассказанная таким-то дьячком .
— Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал!
Бреше, сучий москаль. Так ли я говорил?
Що то еже, як у кого чёрт ма клепки в голови! Слушайте, я вам расскажу её сейчас.
Мы придвинулись к столу, и он начал.
Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы
пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать. Бывало, поведёт речь — целый
день не подвинулся бы с места и всё бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему
балагуру, который как начнёт москаля везтъ[1], да ещё и языком таким, будто ему три дня
есть не давали, то хоть берись за шапку, да из хаты. Как теперь помню — покойная старуха,
мать моя, была ещё жива, — как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и
замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою
длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится
мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало;
а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет
с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов,
про молодецкие дела Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, как
рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по
телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберёт от них, что всё с
вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из
хаты, вот так и думаешь, что на постеле твоей уклался спать выходец с того света. И чтоб
мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали
собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола! Но главное в рассказах
деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и
было.
Page 26/115