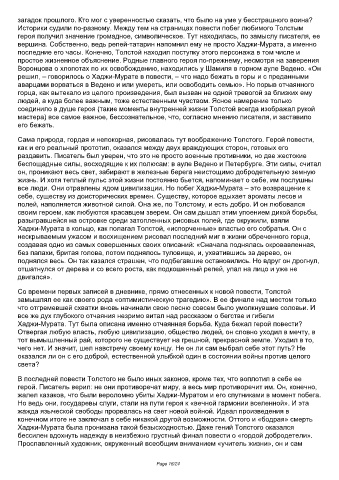Page 16 - Кавказский пленник
P. 16
загадок прошлого. Кто мог с уверенностью сказать, что было на уме у бесстрашного воина?
Историки судили по-разному. Между тем на страницах повести побег любимого Толстым
героя получил значение громадное, символическое. Тут находилась, по замыслу писателя, ее
вершина. Собственно, ведь репей-татарин напомнил ему не просто Хаджи-Мурата, а именно
последние его часы. Конечно, Толстой находил поступку этого персонажа в том числе и
простое жизненное объяснение. Родные главного героя по-прежнему, несмотря на заверения
Воронцова о хлопотах по их освобождению, находились у Шамиля в горном ауле Ведено. «Он
решил, – говорилось о Хаджи-Мурате в повести, – что надо бежать в горы и с преданными
аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью». Но порыв отчаянного
горца, как вытекало из целого произведения, был вызван не одной тревогой за близких ему
людей, а куда более важным, тоже естественным чувством. Ясное намерение только
соединило в душе героя (такие моменты внутренней жизни Толстой всегда изображал рукой
мастера) все самое важное, бессознательное, что, согласно мнению писателя, и заставило
его бежать.
Сама природа, гордая и непокорная, рисовалась тут воображению Толстого. Герой повести,
как и его реальный прототип, оказался между двух враждующих сторон, готовых его
раздавить. Писатель был уверен, что это не просто военные противники, но две жестокие
беспощадные силы, восходящие к их полюсам: в ауле Ведено и Петербурге. Эти силы, считал
он, проникают весь свет, забирают в железные берега неистощимо добродетельную земную
жизнь. И хотя теплый пульс этой жизни постоянно бьется, напоминает о себе, им послушны
все люди. Они отравлены ядом цивилизации. Но побег Хаджи-Мурата – это возвращение к
себе, существу из доисторических времен. Существу, которое вдыхает ароматы лесов и
полей, наполняется животной силой. Она же, по Толстому, и есть добро. И он любовался
своим героем, как любуются красавцем зверем. Он сам дышал этим упоением дикой борьбы,
разыгравшейся на островке среди затопленных рисовых полей, где окружили, взяли
Хаджи-Мурата в кольцо, как полагал Толстой, «испорченные» властью его собратья. Он с
нескрываемым ужасом и восхищением рисовал последний миг в жизни обреченного горца,
создавая одно из самых совершенных своих описаний: «Сначала поднялась окровавленная,
без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он
поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул,
отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не
двигался».
Со времени первых записей в дневнике, прямо отнесенных к новой повести, Толстой
замышлял ее как своего рода «оптимистическую трагедию». В ее финале над местом только
что отгремевшей схватки вновь начинали свою песню совсем было умолкнувшие соловьи. И
все же дух глубокого отчаяния незримо витал над рассказом о бегстве и гибели
Хаджи-Мурата. Тут была описана именно отчаянная борьба. Куда бежал герой повести?
Отвергая любую власть, любую цивилизацию, общество людей, он словно уходил в мечту, в
тот вымышленный рай, которого не существует на грешной, прекрасной земле. Уходил в то,
чего нет. И значит, шел навстречу своему концу. Не он ли сам выбрал себе этот путь? Не
оказался ли он с его доброй, естественной улыбкой один в состоянии войны против целого
света?
В последней повести Толстого не было иных законов, кроме тех, что воплотил в себе ее
герой. Писатель верил: не они противоречат миру, а весь мир противоречит им. Он, конечно,
жалел казаков, что были вероломно убиты Хаджи-Муратом и его спутниками в момент побега.
Но ведь они, государевы слуги, стали на пути героя к «вечной гармонии вселенной». И эта
жажда языческой свободы прорвалась на свет новой войной. Идеал произведения в
конечном итоге не заключал в себе никакой другой возможности. Оттого и «бодрая» смерть
Хаджи-Мурата была пронизана такой безысходностью. Даже гений Толстого оказался
бессилен вдохнуть надежду в неизбежно грустный финал повести о «гордой добродетели».
Прославленный художник, окруженный всеобщим вниманием «учитель жизни», он и сам
Page 16/24