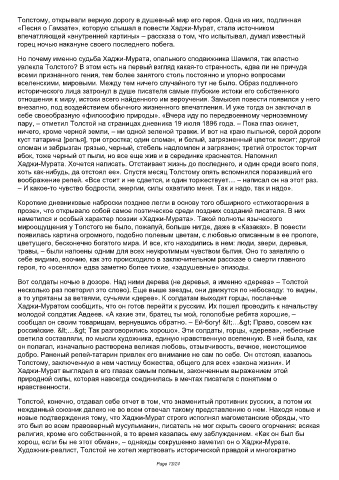Page 13 - Кавказский пленник
P. 13
Толстому, открывали верную дорогу в душевный мир его героя. Одна из них, подлинная
«Песня о Гамзате», которую слышал в повести Хаджи-Мурат, стала источником
впечатляющей «внутренней картины» – рассказа о том, что испытывал, думал известный
горец ночью накануне своего последнего побега.
Но почему именно судьба Хаджи-Мурата, опального сподвижника Шамиля, так властно
увлекла Толстого? В этом есть на первый взгляд какая-то странность, едва ли не причуда
всеми признанного гения, тем более занятого столь постоянно и упорно вопросами
вселенскими, мировыми. Между тем ничего случайного тут не было. Образ подлинного
исторического лица затронул в душе писателя самые глубокие истоки его собственного
отношения к миру, истоки всего найденного им вероучения. Замысел повести появился у него
внезапно, под воздействием обычного жизненного впечатления. И уже тогда он заключал в
себе своеобразную «философию природы». «Вчера иду по передвоенному черноземному
пару, – отметил Толстой на страницах дневника 19 июля 1896 года. – Пока глаз окинет,
ничего, кроме черной земли, – ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги
куст татарина [репья], три отростка; один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой
сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит
вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в серединке краснеется. Напомнил
Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля,
хоть как-нибудь, да отстоял ее». Спустя месяц Толстому опять вспомнился поразивший его
воображение репей. «Все стоит и не сдается, и один торжествует… – написал он на этот раз.
– И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо, так и надо».
Короткие дневниковые наброски позднее легли в основу того обширного «стихотворения в
прозе», что открывало собой самое поэтическое среди поздних созданий писателя. В них
наметился и особый характер поэзии «Хаджи-Мурата». Такой полноты языческого
мироощущения у Толстого не было, пожалуй, больше нигде, даже в «Казаках». В повести
появилась картина огромного, подобно полевым цветам, с любовью описанным в ее прологе,
цветущего, бесконечно богатого мира. И все, кто находились в нем: люди, звери, деревья,
травы, – были напоены одним для всех неукротимым чувством бытия. Оно то заявляло о
себе видимо, воочию, как это происходило в заключительном рассказе о смерти главного
героя, то «осеняло» едва заметно более тихие, «задушевные» эпизоды.
Вот солдаты ночью в дозоре. Над ними дерева (не деревья, а именно «дерева» – Толстой
несколько раз повторил это слово). Еще выше звезды, они движутся по небосводу: то видны,
а то упрятаны за ветвями, сучьями «дерев». К солдатам выходят горцы, посланные
Хаджи-Муратом сообщить, что он готов перейти к русским. Их пошел проводить к начальству
молодой солдатик Авдеев. «А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, –
сообщал он своим товарищам, вернувшись обратно. – Ей-богу! <…> Право, совсем как
российские. <…> Так разговорились хорошо». Эти солдаты, горцы, «дерева», небесные
светила составляли, по мысли художника, единую нравственную вселенную. В ней была, как
он полагал, изначально растворена великая любовь, отзывчивость, вечное, неистощимое
добро. Раненый репей-татарин привлек его внимание не сам по себе. Он отстоял, казалось
Толстому, заключенную в нем частицу божества, общего для всех «закона жизни». И
Хаджи-Мурат выглядел в его глазах самым полным, законченным выражением этой
природной силы, которая навсегда соединилась в мечтах писателя с понятием о
нравственности.
Толстой, конечно, отдавал себе отчет в том, что знаменитый противник русских, а потом их
нежданный союзник далеко не во всем отвечал такому представлению о нем. Находя новые и
новые подтверждения тому, что Хаджи-Мурат строго исполнял магометанские обряды, что
это был во всем правоверный мусульманин, писатель не мог скрыть своего огорчения: всякая
религия, кроме его собственной, в то время казалась ему заблуждением. «Как он был бы
хорош, если бы не этот обман», – однажды сокрушенно заметил он о Хаджи-Мурате.
Художник-реалист, Толстой не хотел жертвовать исторической правдой и многократно
Page 13/24