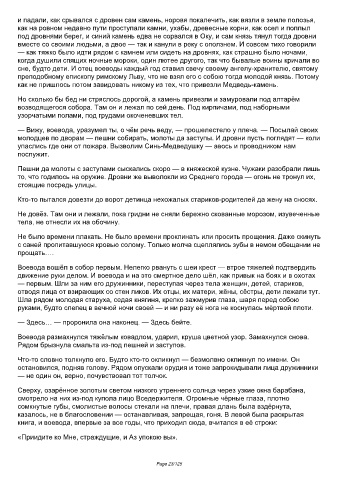Page 23 - Евпатий Коловрат
P. 23
и падали, как срывался с дровен сам камень, норовя покалечить, как вязли в земле полозья,
как на ровном недавно пути проступали камни, ухабы, древесные корни, как осел и поплыл
под дровнями берег, и синий камень едва не сорвался в Оку, и сам князь тянул тогда дровни
вместе со своими людьми, а двое — так и канули в реку с оползнем. И совсем тихо говорили
— как тяжко было идти рядом с камнем или сидеть на дровнях, как страшно было ночами,
когда душили спящих ночные мороки, один лютее другого, так что бывалые воины кричали во
сне, будто дети. И отец воеводы каждый год ставил свечу своему ангелу-хранителю, святому
преподобному епископу римскому Льву, что не взял его с собою тогда молодой князь. Потому
как не пришлось потом завидовать никому из тех, что привезли Медведь-камень.
Но сколько бы бед ни стряслось дорогой, а камень привезли и замуровали под алтарём
возводящегося собора. Там он и лежал по сей день. Под кирпичами, под наборными
узорчатыми полами, под грудами окоченевших тел.
— Вижу, воевода, уразумел ты, о чём речь веду, — прошелестело у плеча. — Посылай своих
молодцев по дворам — пешни собирать, молоты да заступы. И дровни пусть поглядят — коли
упаслись где они от пожара. Вызволим Синь-Медведушку — авось и проводником нам
послужит.
Пешни да молоты с заступами сыскались скоро — в княжеской кузне. Чужаки разобрали лишь
то, что годилось на оружие. Дровни же выволокли из Среднего города — огонь не тронул их,
стоящие посредь улицы.
Кто-то пытался довезти до ворот детинца нехожалых стариков-родителей да жену на сносях.
Не довёз. Там они и лежали, пока гридни не сняли бережно скованные морозом, изувеченные
тела, не отнесли их на обочину.
Не было времени плакать. Не было времени проклинать или просить прощения. Даже скинуть
с саней пропитавшуюся кровью солому. Только молча сцеплялись зубы в немом обещании не
прощать….
Воевода вошёл в собор первым. Нелегко рвануть с шеи крест — втрое тяжелей подтвердить
движение руки делом. И воевода и на это смертное дело шёл, как привык на боях и в охотах
— первым. Шли за ним его дружинники, переступая через тела женщин, детей, стариков,
отводя лица от взирающих со стен ликов. Их отцы, их матери, жёны, сёстры, дети лежали тут.
Шла рядом молодая старуха, седая княгиня, крепко зажмурив глаза, шаря перед собою
руками, будто слепец в вечной ночи своей — и ни разу её нога не коснулась мёртвой плоти.
— Здесь… — проронила она наконец. — Здесь бейте.
Воевода размахнулся тяжёлым ковадлом, ударил, круша цветной узор. Замахнулся снова.
Рядом брызнула смальта из-под пешней и заступов.
Что-то словно толкнуло его. Будто кто-то окликнул — безмолвно окликнул по имени. Он
остановился, подняв голову. Рядом опускали орудия и тоже запрокидывали лица дружинники
— не один он, верно, почувствовал тот толчок.
Сверху, озарённое золотым светом низкого утреннего солнца через узкие окна барабана,
смотрело на них из-под купола лицо Вседержителя. Огромные чёрные глаза, плотно
сомкнутые губы, смолистые волосы стекали на плечи, правая длань была вздёрнута,
казалось, не в благословении — останавливая, запрещая, гоня. В левой была раскрытая
книга, и воевода, впервые за все годы, что приходил сюда, вчитался в её строки:
«Приидите ко Мне, страждущие, и Аз упокою вы».
Page 23/125