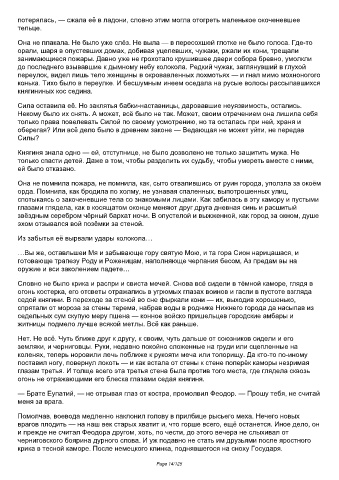Page 14 - Евпатий Коловрат
P. 14
потерялась, — сжала её в ладони, словно этим могла отогреть маленькое окоченевшее
тельце.
Она не плакала. Не было уже слёз. Не выла — в пересохшей глотке не было голоса. Где-то
орали, шаря в опустевших домах, добивая уцелевших, чужаки, ржали их кони, трещали
занимающиеся пожары. Давно уже не грохотало крушившее двери собора бревно, умолкли
до последнего взывавшие к дымному небу колокола. Редкий чужак, заглянувший в глухой
переулок, видел лишь тело женщины в окровавленных лохмотьях — и гнал мимо мохноногого
конька. Тихо было в переулке. И бесшумным инеем оседала на русые волосы рассыпавшихся
княгининых кос седина.
Сила оставила её. Но заклятья бабки-наставницы, даровавшие неуязвимость, остались.
Некому было их снять. А может, всё было не так. Может, своим отречением она лишила себя
только права повелевать Силой по своему усмотрению, но та осталась при ней, храня и
оберегая? Или всё дело было в древнем законе — Ведающая не может уйти, не передав
Силы?
Княгиня знала одно — ей, отступнице, не было дозволено не только защитить мужа. Не
только спасти детей. Даже в том, чтобы разделить их судьбу, чтобы умереть вместе с ними,
ей было отказано.
Она не помнила пожара, не помнила, как, сыто отвалившись от руин города, уползла за окоём
орда. Помнила, как бродила по холму, не узнавая спаленных, выпотрошенных улиц,
спотыкаясь о закоченевшие тела со знакомыми лицами. Как забилась в эту камору и пустыми
глазами глядела, как в косящатом оконце меняют друг друга дневная синь и расшитый
звёздным серебром чёрный бархат ночи. В опустелой и выжженной, как город за окном, душе
эхом отзывался вой позёмки за стеной.
Из забытья её вырвали удары колокола…
…Вы же, оставльшеи Мя и забывающе гору святую Мою, и та гора Сион нарицашася, и
готовающе трапезу Роду и Роженицам, наполняюще черпания бесом, Аз предам вы на
оружие и вси заколением падете…
Словно не было крика и распри и свиста мечей. Снова всё сидели в тёмной каморе, глядя в
огонь костерка, его отсветы отражались в угрюмых глазах воинов и гасли в пустоте взгляда
седой княгини. В переходе за стеной во сне фыркали кони — их, выходив хорошенько,
спрятали от мороза за стены терема, набрав воды в роднике Нижнего города да насыпав из
седельных сум скупую меру пшена — конное войско пришельцев городские амбары и
житницы подмело лучше всякой метлы. Всё как раньше.
Нет. Не всё. Чуть ближе друг к другу, к своим, чуть дальше от союзников сидели и его
земляки, и черниговцы. Руки, недавно покойно сложенные на груди или сцепленные на
коленях, теперь норовили лечь поближе к рукояти меча или топорищу. Да кто-то по-иному
поставил ногу, повернул локоть — и как встала от стены к стене поперёк каморы незримая
глазам третья. И толще всего эта третья стена была против того места, где глядела сквозь
огонь не отражающими его блеска глазами седая княгиня.
— Брате Еупатий, — не отрывая глаз от костра, промолвил Феодор. — Прошу тебя, не считай
меня за врага.
Помолчав, воевода медленно наклонил голову в прилбице рысьего меха. Нечего новых
врагов плодить — на наш век старых хватит и, что горше всего, ещё останется. Иное дело, он
и прежде не считал Феодора другом, хоть, по чести, до этого вечера не слыхивал от
черниговского боярина дурного слова. И уж подавно не стать им друзьями после яростного
крика в тесной каморе. После немецкого клинка, поднявшегося на сноху Государя.
Page 14/125