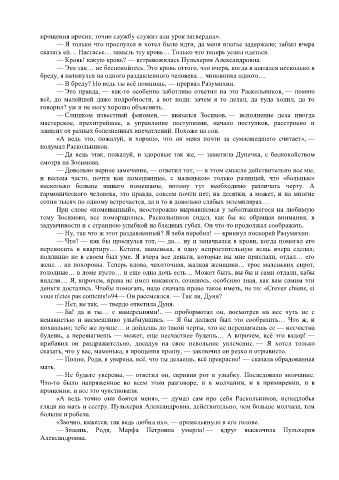Page 116 - Преступление и наказание
P. 116
прощения просит, точно службу служит али урок затвердил».
— Я только что проснулся и хотел было идти, да меня платье задержало; забыл вчера
сказать ей… Настасье… замыть эту кровь… Только что теперь успел одеться.
— Кровь! какую кровь? — встревожилась Пульхерия Александровна.
— Это так… не беспокойтесь. Это кровь оттого, что вчера, когда я шатался несколько в
бреду, я наткнулся на одного раздавленного человека… чиновника одного…
— В бреду? Но ведь ты всё помнишь, — прервал Разумихин.
— Это правда, — как-то особенно заботливо ответил на это Раскольников, — помню
всё, до малейшей даже подробности, а вот поди: зачем я то делал, да туда ходил, да то
говорил? уж и не могу хорошо объяснить.
— Слишком известный феномен, — ввязался Зосимов, — исполнение дела иногда
мастерское, прехитрейшее, а управление поступками, начало поступков, расстроено и
зависит от разных болезненных впечатлений. Похоже на сон.
«А ведь это, пожалуй, и хорошо, что он меня почти за сумасшедшего считает», —
подумал Раскольников.
— Да ведь этак, пожалуй, и здоровые так же, — заметила Дунечка, с беспокойством
смотря на Зосимова.
— Довольно верное замечание, — ответил тот, — в этом смысле действительно все мы,
и весьма часто, почти как помешанные, с маленькою только разницей, что «больные»
несколько больше нашего помешаны, потому тут необходимо различать черту. А
гармонического человека, это правда, совсем почти нет; на десятки, а может, и на многие
сотни тысяч по одному встречается, да и то в довольно слабых экземплярах…
При слове «помешанный», неосторожно вырвавшемся у заболтавшегося на любимую
тему Зосимова, все поморщились. Раскольников сидел, как бы не обращая внимания, в
задумчивости и с странною улыбкой на бледных губах. Он что-то продолжал соображать.
— Ну, так что ж этот раздавленный? Я тебя перебил! — крикнул поскорей Разумихин.
— Что? — как бы проснулся тот, — да… ну и запачкался в крови, когда помогал его
переносить в квартиру… Кстати, маменька, я одну непростительную вещь вчера сделал;
подлинно не в своем был уме. Я вчера все деньги, которые вы мне прислали, отдал… его
жене… на похороны. Теперь вдова, чахоточная, жалкая женщина… трое маленьких сирот,
голодные… в доме пусто… и еще одна дочь есть… Может быть, вы бы и сами отдали, кабы
видели… Я, впрочем, права не имел никакого, сознаюсь, особенно зная, как вам самим эти
деньги достались. Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь, не то: «Crevez chiens, si
vous n'etes pas contents!»94— Он рассмеялся. — Так ли, Дуня?
— Нет, не так, — твердо ответила Дуня.
— Ба! да и ты… с намерениями!.. — пробормотал он, посмотрев на нее чуть не с
ненавистью и насмешливо улыбнувшись. — Я бы должен был это сообразить… Что ж, и
похвально; тебе же лучше… и дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее — несчастна
будешь, а перешагнешь — может, еще несчастнее будешь… А впрочем, всё это вздор! —
прибавил он раздражительно, досадуя на свое невольное увлечение. — Я хотел только
сказать, что у вас, маменька, я прощения прошу, — заключил он резко и отрывисто.
— Полно, Родя, я уверена, всё, что ты делаешь, всё прекрасно! — сказала обрадованная
мать.
— Не будьте уверены, — ответил он, скривив рот в улыбку. Последовало молчание.
Что-то было напряженное во всем этом разговоре, и в молчании, и в примирении, и в
прощении, и все это чувствовали.
«А ведь точно они боятся меня», — думал сам про себя Раскольников, исподлобья
глядя на мать и сестру. Пульхерия Александровна, действительно, чем больше молчала, тем
больше и робела.
«Заочно, кажется, так ведь любил их», — промелькнуло в его голове.
— Знаешь, Родя, Марфа Петровна умерла! — вдруг выскочила Пульхерия
Александровна.