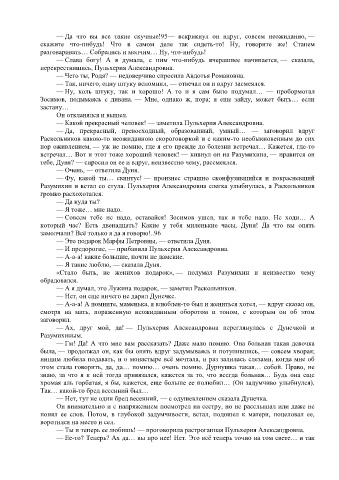Page 118 - Преступление и наказание
P. 118
— Да что вы все такие скучные!95— вскрикнул он вдруг, совсем неожиданно, —
скажите что-нибудь! Что в самом деле так сидеть-то! Ну, говорите же! Станем
разговаривать… Собрались и молчим… Ну, что-нибудь!
— Слава богу! А я думала, с ним что-нибудь вчерашнее начинается, — сказала,
перекрестившись, Пульхерия Александровна.
— Чего ты, Родя? — недоверчиво спросила Авдотья Романовна.
— Так, ничего, одну штуку вспомнил, — отвечал он и вдруг засмеялся.
— Ну, коль штуку, так и хорошо! А то и я сам было подумал… — пробормотал
Зосимов, подымаясь с дивана. — Мне, однако ж, пора; я еще зайду, может быть… если
застану…
Он откланялся и вышел.
— Какой прекрасный человек! — заметила Пульхерия Александровна.
— Да, прекрасный, превосходный, образованный, умный… — заговорил вдруг
Раскольников какою-то неожиданною скороговоркой и с каким-то необыкновенным до сих
пор оживлением, — уж не помню, где я его прежде до болезни встречал… Кажется, где-то
встречал… Вот и этот тоже хороший человек! — кивнул он на Разумихина, — нравится он
тебе, Дуня? — спросил он ее и вдруг, неизвестно чему, рассмеялся.
— Очень, — ответила Дуня.
— Фу, какой ты… свинтус! — произнес страшно сконфузившийся и покрасневший
Разумихин и встал со стула. Пульхерия Александровна слегка улыбнулась, а Раскольников
громко расхохотался.
— Да куда ты?
— Я тоже… мне надо.
— Совсем тебе не надо, оставайся! Зосимов ушел, так и тебе надо. Не ходи… А
который час? Есть двенадцать? Какие у тебя миленькие часы, Дуня! Да что вы опять
замолчали? Всё только я да я говорю!..96
— Это подарок Марфы Петровны, — ответила Дуня.
— И предорогие, — прибавила Пульхерия Александровна.
— А-а-а! какие большие, почти не дамские.
— Я такие люблю, — сказала Дуня.
«Стало быть, не женихов подарок», — подумал Разумихин и неизвестно чему
обрадовался.
— А я думал, это Лужина подарок, — заметил Раскольников.
— Нет, он еще ничего не дарил Дунечке.
— А-а-а! А помните, маменька, я влюблен-то был и жениться хотел, — вдруг сказал он,
смотря на мать, пораженную неожиданным оборотом и тоном, с которым он об этом
заговорил.
— Ах, друг мой, да! — Пульхерия Александровна переглянулась с Дунечкой и
Разумихиным.
— Гм! Да! А что мне вам рассказать? Даже мало помню. Она больная такая девочка
была, — продолжал он, как бы опять вдруг задумываясь и потупившись, — совсем хворая;
нищим любила подавать, и о монастыре всё мечтала, и раз залилась слезами, когда мне об
этом стала говорить, да, да… помню… очень помню. Дурнушка такая… собой. Право, не
знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется за то, что всегда больная… Будь она еще
хромая аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил… (Он задумчиво улыбнулся).
Так… какой-то бред весенний был…
— Нет, тут не один бред весенний, — с одушевлением сказала Дунечка.
Он внимательно и с напряжением посмотрел на сестру, но не расслышал или даже не
понял ее слов. Потом, в глубокой задумчивости, встал, подошел к матери, поцеловал ее,
воротился на место и сел.
— Ты и теперь ее любишь! — проговорила растроганная Пульхерия Александровна.
— Ее-то? Теперь? Ах да… вы про нее! Нет. Это всё теперь точно на том свете… и так