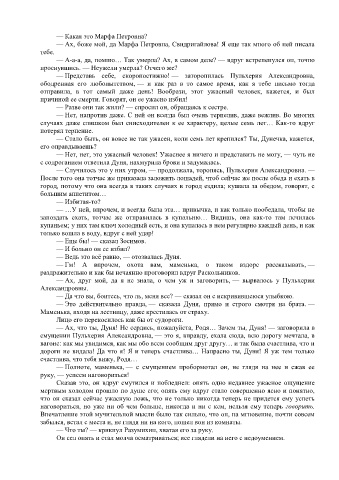Page 117 - Преступление и наказание
P. 117
— Какая это Марфа Петровна?
— Ах, боже мой, да Марфа Петровна, Свидригайлова! Я еще так много об ней писала
тебе.
— А-а-а, да, помню… Так умерла? Ах, в самом деле? — вдруг встрепенулся он, точно
проснувшись. — Неужели умерла? Отчего же?
— Представь себе, скоропостижно! — заторопилась Пульхерия Александровна,
ободренная его любопытством, — и как раз в то самое время, как я тебе письмо тогда
отправила, в тот самый даже день! Вообрази, этот ужасный человек, кажется, и был
причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил!
— Разве они так жили? — спросил он, обращаясь к сестре.
— Нет, напротив даже. С ней он всегда был очень терпелив, даже вежлив. Во многих
случаях даже слишком был снисходителен к ее характеру, целые семь лет… Как-то вдруг
потерял терпение.
— Стало быть, он вовсе не так ужасен, коли семь лет крепился? Ты, Дунечка, кажется,
его оправдываешь?
— Нет, нет, это ужасный человек! Ужаснее я ничего и представить не могу, — чуть не
с содроганием ответила Дуня, нахмурила брови и задумалась.
— Случилось это у них утром, — продолжала, торопясь, Пульхерия Александровна. —
После того она тотчас же приказала заложить лошадей, чтоб сейчас же после обеда и ехать в
город, потому что она всегда в таких случаях в город ездила; кушала за обедом, говорят, с
большим аппетитом…
— Избитая-то?
— …У ней, впрочем, и всегда была эта… привычка, и как только пообедала, чтобы не
запоздать ехать, тотчас же отправилась в купальню… Видишь, она как-то там лечилась
купаньем; у них там ключ холодный есть, и она купалась в нем регулярно каждый день, и как
только вошла в воду, вдруг с ней удар!
— Еще бы! — сказал Зосимов.
— И больно он ее избил?
— Ведь это всё равно, — отозвалась Дуня.
— Гм! А впрочем, охота вам, маменька, о таком вздоре рассказывать, —
раздражительно и как бы нечаянно проговорил вдруг Раскольников.
— Ах, друг мой, да я не знала, о чем уж и заговорить, — вырвалось у Пульхерии
Александровны.
— Да что вы, боитесь, что ль, меня все? — сказал он с искривившеюся улыбкою.
— Это действительно правда, — сказала Дуня, прямо и строго смотря на брата. —
Маменька, входя на лестницу, даже крестилась от страху.
Лицо его перекосилось как бы от судороги.
— Ах, что ты, Дуня! Не сердись, пожалуйста, Родя… Зачем ты, Дуня! — заговорила в
смущении Пульхерия Александровна, — это я, вправду, ехала сюда, всю дорогу мечтала, в
вагоне: как мы увидимся, как мы обо всем сообщим друг другу… и так была счастлива, что и
дороги не видала! Да что я! Я и теперь счастлива… Напрасно ты, Дуня! Я уж тем только
счастлива, что тебя вижу, Родя…
— Полноте, маменька, — с смущением пробормотал он, не глядя на нее и сжав ее
руку, — успеем наговориться!
Сказав это, он вдруг смутился и побледнел: опять одно недавнее ужасное ощущение
мертвым холодом прошло по душе его; опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно,
что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не придется ему успеть
наговориться, но уже ни об чем больше, никогда и ни с кем, нельзя ему теперь говорить.
Впечатление этой мучительной мысли было так сильно, что он, на мгновение, почти совсем
забылся, встал с места и, не глядя ни на кого, пошел вон из комнаты.
— Что ты? — крикнул Разумихин, хватая его за руку.
Он сел опять и стал молча осматриваться; все глядели на него с недоумением.