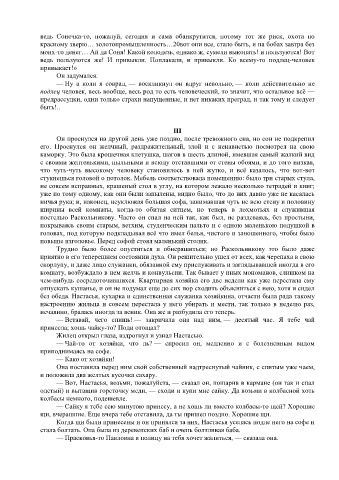Page 14 - Преступление и наказание
P. 14
ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится, потому тот же риск, охота по
красному зверю… золотопромышленность…20вот они все, стало быть, и на бобах завтра без
моих-то денег… Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот
ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек
привыкает!»
Он задумался.
— Ну а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — коли действительно не
подлец человек, весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное всё —
предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует
быть!..
III
Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил
его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою
каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид
с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая,
что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот
стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению: было три старых стула,
не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг;
уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась
ничья рука; и, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину
ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и служившая
постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни,
покрываясь своим старым, ветхим, студенческим пальто и с одною маленькою подушкой в
головах, под которую подкладывал всё что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было
повыше изголовье. Перед софой стоял маленький столик.
Трудно было более опуститься и обнеряшиться; но Раскольникову это было даже
приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою
скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его
комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на
чем-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его две недели как уже перестала ему
отпускать кушанье, и он не подумал еще до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел
без обеда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому
настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести, так только в неделю раз,
нечаянно, бралась иногда за веник. Она же и разбудила его теперь.
— Вставай, чего спишь! — закричала она над ним, — десятый час. Я тебе чай
принесла; хошь чайку-то? Поди отощал?
Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом
приподнимаясь на софе.
— Како от хозяйки!
Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем,
и положила два желтых кусочка сахару.
— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал
одетый) и вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть
колбасы немного, подешевле.
— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие
щи, вчерашние. Еще вчера тебе отставила, да ты пришел поздно. Хорошие щи.
Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и
стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.
— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.