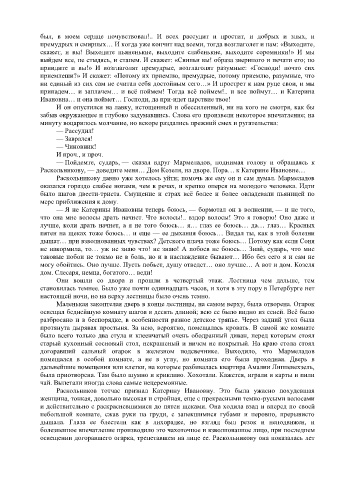Page 12 - Преступление и наказание
P. 12
был, в моем сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и
премудрых и смирных… И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите,
скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы
выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но
приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих
приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что
ни единый из сих сам не считал себя достойным сего…» И прострет к нам руце свои, и мы
припадем… и заплачем… и всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут… и Катерина
Ивановна… и она поймет… Господи, да при-идет царствие твое!
И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы
забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление; на
минуту воцарилось молчание, но вскоре раздались прежний смех и ругательства:
— Рассудил!
— Заврался!
— Чиновник!
И проч., и проч.
— Пойдемте, сударь, — сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к
Раскольникову, — доведите меня… Дом Козеля, на дворе. Пора… к Катерине Ивановне…
Раскольникову давно уже хотелось уйти; помочь же ему он и сам думал. Мармеладов
оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти
было шагов двести-триста. Смущение и страх всё более и более овладевали пьяницей по
мере приближения к дому.
— Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, — бормотал он в волнении, — и не того,
что она мне волосы драть начнет. Что волосы!.. вздор волосы! Это я говорю! Оно даже и
лучше, коли драть начнет, а я не того боюсь… я… глаз ее боюсь… да… глаз… Красных
пятен на щеках тоже боюсь… и еще — ее дыхания боюсь… Видал ты, как в этой болезни
дышат… при взволнованных чувствах? Детского плача тоже боюсь… Потому как если Соня
не накормила, то… уж не знаю что! не знаю! А побоев не боюсь… Знай, сударь, что мне
таковые побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают… Ибо без сего я и сам не
могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьет, душу отведет… оно лучше… А вот и дом. Козеля
дом. Слесаря, немца, богатого… веди!
Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем
становилась темнее. Было уже почти одиннадцать часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет
настоящей ночи, но на верху лестницы было очень темно.
Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок
освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней. Всё было
разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была
протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате
было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял
старый кухонный сосновый стол, некрашеный и ничем не покрытый. На краю стола стоял
догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов
помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в
дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпевехзель,
была приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили
чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.
Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая
женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами
и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей
небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и неровно, прерывисто
дышала. Глаза ее блестели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и
болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо, при последнем
освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет