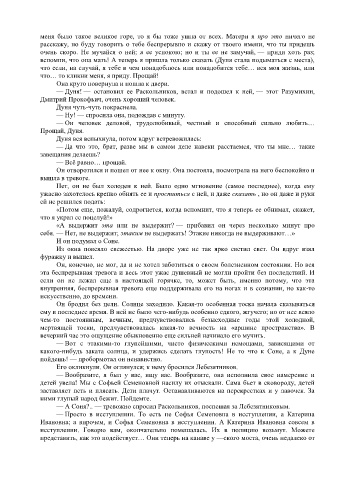Page 221 - Преступление и наказание
P. 221
меня было такое великое горе, то я бы тоже ушла от всех. Матери я про это ничего не
расскажу, но буду говорить о тебе беспрерывно и скажу от твоего имени, что ты придешь
очень скоро. Не мучайся о ней; я ее успокою; но и ты ее не замучай, — приди хоть раз;
вспомни, что она мать! А теперь я пришла только сказать (Дуня стала подыматься с места),
что если, на случай, я тебе в чем понадоблюсь или понадобится тебе… вся моя жизнь, или
что… то кликни меня, я приду. Прощай!
Она круто повернула и пошла к двери.
— Дуня! — остановил ее Раскольников, встал и подошел к ней, — этот Разумихин,
Дмитрий Прокофьич, очень хороший человек.
Дуня чуть-чуть покраснела.
— Ну! — спросила она, подождав с минуту.
— Он человек деловой, трудолюбивый, честный и способный сильно любить…
Прощай, Дуня.
Дуня вся вспыхнула, потом вдруг встревожилась:
— Да что это, брат, разве мы в самом деле навеки расстаемся, что ты мне… такие
завещания делаешь?
— Всё равно… прощай.
Он отворотился и пошел от нее к окну. Она постояла, посмотрела на него беспокойно и
вышла в тревоге.
Нет, он не был холоден к ней. Было одно мгновение (самое последнее), когда ему
ужасно захотелось крепко обнять ее и проститься с ней, и даже сказать , но он даже и руки
ей не решился подать:
«Потом еще, пожалуй, содрогнется, когда вспомнит, что я теперь ее обнимал, скажет,
что я украл ее поцелуй!»
«А выдержит эта или не выдержит? — прибавил он через несколько минут про
себя. — Нет, не выдержит; этаким не выдержать! Этакие никогда не выдерживают…»
И он подумал о Соне.
Из окна повеяло свежестью. На дворе уже не так ярко светил свет. Он вдруг взял
фуражку и вышел.
Он, конечно, не мог, да и не хотел заботиться о своем болезненном состоянии. Но вся
эта беспрерывная тревога и весь этот ужас душевный не могли пройти без последствий. И
если он не лежал еще в настоящей горячке, то, может быть, именно потому, что эта
внутренняя, беспрерывная тревога еще поддерживала его на ногах и в сознании, но как-то
искусственно, до времени.
Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться
ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло
чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной,
мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства». В
вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильней начинало его мучить.
— Вот с этакими-то глупейшими, чисто физическими немощами, зависящими от
какого-нибудь заката солнца, и удержись сделать глупость! Не то что к Соне, а к Дуне
пойдешь! — пробормотал он ненавистно.
Его окликнули. Он оглянулся; к нему бросился Лебезятников.
— Вообразите, я был у вас, ищу вас. Вообразите, она исполнила свое намерение и
детей увела! Мы с Софьей Семеновной насилу их отыскали. Сама бьет в сковороду, детей
заставляет петь и плясать. Дети плачут. Останавливаются на перекрестках и у лавочек. За
ними глупый народ бежит. Пойдемте.
— А Соня?.. — тревожно спросил Раскольников, поспешая за Лебезятниковым.
— Просто в исступлении. То есть не Софья Семеновна в исступлении, а Катерина
Ивановна; а впрочем, и Софья Семеновна в исступлении. А Катерина Ивановна совсем в
исступлении. Говорю вам, окончательно помешалась. Их в полицию возьмут. Можете
представить, как это подействует… Они теперь на канаве у —ского моста, очень недалеко от