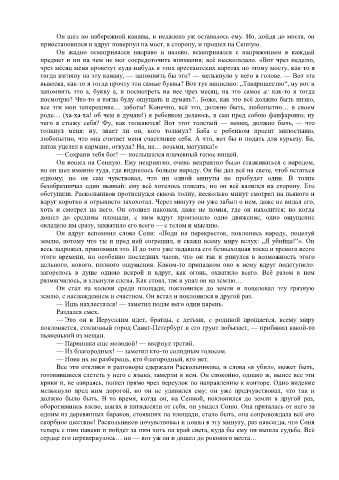Page 272 - Преступление и наказание
P. 272
Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он
приостановился и вдруг повернул на мост, в сторону, и прошел на Сенную.
Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый
предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимания; всё выскользало. «Вот чрез неделю,
чрез месяц меня провезут куда-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту, как-то я
тогда взгляну на эту канаву, — запомнить бы это? — мелькнуло у него в голове. — Вот эта
вывеска, как-то я тогда прочту эти самые буквы? Вот тут написано: „Таварищество“, ну вот и
запомнить это а, букву а, и посмотреть на нее чрез месяц, на это самое а: как-то я тогда
посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать?.. Боже, как это всё должно быть низко,
все эти мои теперешние… заботы! Конечно, всё это, должно быть, любопытно… в своем
роде… (ха-ха-ха! об чем я думаю!) я ребенком делаюсь, я сам пред собою фанфароню; ну
чего я стыжу себя? Фу, как толкаются! Вот этот толстый — немец, должно быть, — что
толкнул меня: ну, знает ли он, кого толкнул? Баба с ребенком просит милостыню,
любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что, вот бы и подать для курьезу. Ба,
пятак уцелел в кармане, откуда? На, на… возьми, матушка!»
— Сохрани тебя бог! — послышался плачевный голос нищей.
Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом,
но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал всё на свете, чтоб остаться
одному; но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе
безобразничал один пьяный: ему всё хотелось плясать, но он всё валился на сторону. Его
обступили. Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и
вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его,
хоть и смотрел на него. Он отошел наконец, даже не помня, где он находится; но когда
дошел до средины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение
овладело им сразу, захватило его всего — с телом и мыслию.
Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй
землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: „Я убийца!“». Он
весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего
этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого
цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило:
загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Всё разом в нем
размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю…
Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную
землю, с наслаждением и счастием. Он встал и поклонился в другой раз.
— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.
Раздался смех.
— Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру
поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, — прибавил какой-то
пьяненький из мещан.
— Парнишка еще молодой! — ввернул третий.
— Из благородных! — заметил кто-то солидным голосом.
— Ноне их не разберешь, кто благородный, кто нет.
Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может быть,
готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако ж, вынес все эти
крики и, не озираясь, пошел прямо чрез переулок по направлению к конторе. Одно видение
мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему; он уже предчувствовал, что так и
должно было быть. В то время, когда он, на Сенной, поклонился до земли в другой раз,
оборотившись влево, шагах в пятидесяти от себя, он увидел Соню. Она пряталась от него за
одним из деревянных бараков, стоявших на площади, стало быть, она сопровождала всё его
скорбное шествие! Раскольников почувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда, что Соня
теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Всё
сердце его перевернулось… но — вот уж он и дошел до рокового места…