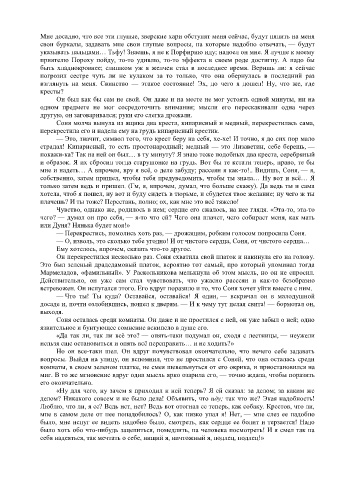Page 271 - Преступление и наказание
P. 271
Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить на меня
свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, — будут
указывать пальцами… Тьфу! Знаешь, я не к Порфирию иду; надоел он мне. Я лучше к моему
приятелю Пороху пойду, то-то удивлю, то-то эффекта в своем роде достигну. А надо бы
быть хладнокровнее; слишком уж я желчен стал в последнее время. Веришь ли: я сейчас
погрозил сестре чуть ли не кулаком за то только, что она обернулась в последний раз
взглянуть на меня. Свинство — этакое состояние! Эх, до чего я дошел! Ну, что же, где
кресты?
Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты, ни на
одном предмете не мог сосредоточить внимания; мысли его перескакивали одна через
другую, он заговаривался; руки его слегка дрожали.
Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама,
перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик.
— Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе-хе! И точно, я до сих пор мало
страдал! Кипарисный, то есть простонародный; медный — это Лизаветин, себе берешь, —
покажи-ка? Так на ней он был… в ту минуту? Я знаю тоже подобных два креста, серебряный
и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те кстати теперь, право, те бы
мне и надеть… А впрочем, вру я всё, о деле забуду; рассеян я как-то!.. Видишь, Соня, — я,
собственно, затем пришел, чтобы тебя предуведомить, чтобы ты знала… Ну вот и всё… Я
только затем ведь и пришел. (Гм, я, впрочем, думал, что больше скажу). Да ведь ты и сама
хотела, чтоб я пошел, ну вот и буду сидеть в тюрьме, и сбудется твое желание; ну чего ж ты
плачешь? И ты тоже? Перестань, полно; ох, как мне это всё тяжело!
Чувство, однако же, родилось в нем; сердце его сжалось, на нее глядя. «Эта-то, эта-то
чего? — думал он про себя, — я-то что ей? Чего она плачет, чего собирает меня, как мать
или Дуня? Нянька будет моя!»
— Перекрестись, помолись хоть раз, — дрожащим, робким голосом попросила Соня.
— О, изволь, это сколько тебе угодно! И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца…
Ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое.
Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову.
Это был зеленый драдедамовый платок, вероятно тот самый, про который упоминал тогда
Мармеладов, «фамильный». У Раскольникова мелькнула об этом мысль, но он не спросил.
Действительно, он уже сам стал чувствовать, что ужасно рассеян и как-то безобразно
встревожен. Он испугался этого. Его вдруг поразило и то, что Соня хочет уйти вместе с ним.
— Что ты! Ты куда? Оставайся, оставайся! Я один, — вскричал он в малодушной
досаде и, почти озлобившись, пошел к дверям. — И к чему тут целая свита! — бормотал он,
выходя.
Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, он уже забыл о ней; одно
язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его.
«Да так ли, так ли всё это? — опять-таки подумал он, сходя с лестницы, — неужели
нельзя еще остановиться и опять всё переправить… и не ходить?»
Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать
вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди
комнаты, в своем зеленом платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на
миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его, — точно ждала, чтобы поразить
его окончательно.
«Ну для чего, ну зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за каким же
делом? Никакого совсем и не было дела! Объявить, что иду; так что же? Экая надобность!
Люблю, что ли, я ее? Ведь нет, нет? Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли,
мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, — мне слез ее надобно
было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается! Надо
было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на
себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!»