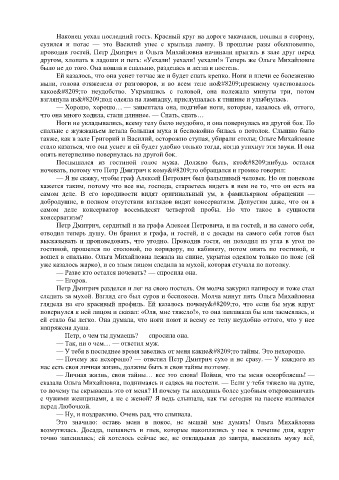Page 102 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 102
Наконец уехал последний гость. Красный круг на дороге закачался, поплыл в сторону,
сузился и погас — это Василий унес с крыльца лампу. В прошлые разы обыкновенно,
проводив гостей, Петр Дмитрич и Ольга Михайловна начинали прыгать в зале друг перед
другом, хлопать в ладоши и петь: «Уехали! уехали! уехали!» Теперь же Ольге Михайловне
было не до того. Она пошла в спальню, разделась и легла в постель.
Ей казалось, что она уснет тотчас же и будет спать крепко. Ноги и плечи ее болезненно
ныли, голова отяжелела от разговоров, и во всем теле по‑прежнему чувствовалось
какое‑то неудобство. Укрывшись с головой, она полежала минуты три, потом
взглянула из‑под одеяла на лампадку, прислушалась к тишине и улыбнулась.
— Хорошо, хорошо… — зашептала она, подгибая ноги, которые, казалось ей, оттого,
что она много ходила, стали длиннее. — Спать, спать…
Ноги не укладывались, всему телу было неудобно, и она повернулась на другой бок. По
спальне с жужжаньем летала большая муха и беспокойно билась о потолок. Слышно было
также, как в зале Григорий и Василий, осторожно ступая, убирали столы; Ольге Михайловне
стало казаться, что она уснет и ей будет удобно только тогда, когда утихнут эти звуки. И она
опять нетерпеливо повернулась на другой бок.
Послышался из гостиной голос мужа. Должно быть, кто‑нибудь остался
ночевать, потому что Петр Дмитрич к кому‑то обращался и громко говорил:
— Я не скажу, чтобы граф Алексей Петрович был фальшивый человек. Но он поневоле
кажется таким, потому что все вы, господа, стараетесь видеть в нем не то, что он есть на
самом деле. В его юродивости видят оригинальный ум, в фамильярном обращении —
добродушие, в полном отсутствии взглядов видят консерватизм. Допустим даже, что он в
самом деле консерватор восемьдесят четвертой пробы. Но что такое в сущности
консерватизм?
Петр Дмитрич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на самого себя,
отводил теперь душу. Он бранил и графа, и гостей, и с досады на самого себя готов был
высказывать и проповедовать, что угодно. Проводив гостя, он походил из угла в угол по
гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потом опять по гостиной, и
вошел в спальню. Ольга Михайловна лежала на спине, укрытая одеялом только по пояс (ей
уже казалось жарко), и со злым лицом следила за мухой, которая стучала по потолку.
— Разве кто остался ночевать? — спросила она.
— Егоров.
Петр Дмитрич разделся и лег на свою постель. Он молча закурил папиросу и тоже стал
следить за мухой. Взгляд его был суров и беспокоен. Молча минут пять Ольга Михайловна
глядела на его красивый профиль. Ей казалось почему‑то, что если бы муж вдруг
повернулся к ней лицом и сказал: «Оля, мне тяжело!», то она заплакала бы или засмеялась, и
ей стало бы легко. Она думала, что ноги поют и всему ее телу неудобно оттого, что у нее
напряжена душа.
— Петр, о чем ты думаешь? — спросила она.
— Так, ни о чем… — ответил муж.
— У тебя в последнее время завелись от меня какие‑то тайны. Это нехорошо.
— Почему же нехорошо? — ответил Петр Дмитрич сухо и не сразу. — У каждого из
нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.
— Личная жизнь, свои тайны… все это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь! —
сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели. — Если у тебя тяжело на душе,
то почему ты скрываешь это от меня? И почему ты находишь более удобным откровенничать
с чужими женщинами, а не с женой? Я ведь слышала, как ты сегодня на пасеке изливался
перед Любочкой.
— Ну, и поздравляю. Очень рад, что слышала.
Это значило: оставь меня в покое, не мешай мне думать! Ольга Михайловна
возмутилась. Досада, ненависть и гнев, которые накоплялись у нее в течение дня, вдруг
точно запенились; ей хотелось сейчас же, не откладывая до завтра, высказать мужу всё,