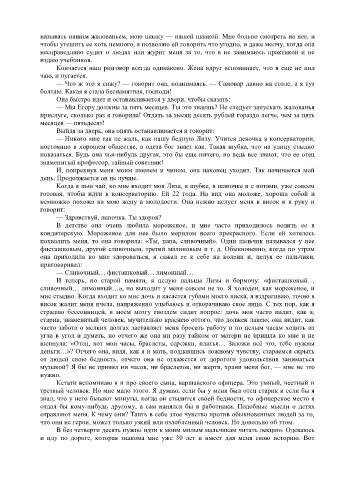Page 109 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 109
называть нашим жалованьем, мою шапку — нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и
чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно, и даже молчу, когда она
несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не
издаю учебников.
Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил
чаю, и пугается.
— Что ж это я сижу? — говорит она, поднимаясь. — Самовар давно на столе, а я тут
болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!
Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:
— Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья
прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять
месяцев — пятьдесят!
Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:
— Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории,
постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно
показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец
знаменитый профессор, тайный советник!
И, попрекнув меня моим именем и чином, она наконец уходит. Так начинается мой
день. Продолжается он не лучше.
Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем
готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей 22 года. На вид она моложе, хороша собой и
немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и
говорит:
— Здравствуй, папочка. Ты здоров?
В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в
кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось
похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее
фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам
она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики,
приговаривал:
— Сливочный… фисташковый… лимонный…
И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый…
сливочный… лимонный…», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и
мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в
висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я
страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я,
старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как
часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из
угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не
шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья… Заложи всё это, тебе нужны
деньги…»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть
от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься
музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня бог, — мне не это
нужно.
Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и
трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я
знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я
отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях
отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то,
что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.
В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь
и иду по дороге, которая знакома мне уже 30 лет и имеет для меня свою историю. Вот