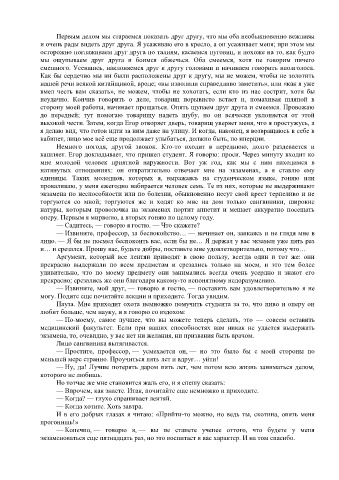Page 114 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 114
Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы
и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы
осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто
мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего
смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса.
Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить
нашей речи всякой китайщиной, вроде; «вы изволили справедливо заметить», или «как я уже
вмел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы
неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в
сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю
до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой
высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а
я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в
кабинет, лицо мое всё еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции.
Немного погодя, другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и
кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко
мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в
натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему
единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или
проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают
экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не
торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие
натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать
оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.
— Садитесь, — говорю я гостю. — Что скажете?
— Извините, профессор, за беспокойство… — начинает он, заикаясь и не глядя мне в
лицо. — Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не… Я держал у вас экзамен уже пять раз
и… и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что…
Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они
прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более
удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его
прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.
— Извините, мой друг, — говорю я гостю, — поставить вам удовлетворительно я не
могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.
Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он
любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:
— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это — совсем оставить
медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать
экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.
Лицо сангвиника вытягивается.
— Простите, профессор, — усмехается он, — но это было бы с моей стороны по
меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг… уйти!
— Ну, да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом,
которого не любишь.
Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:
— Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.
— Когда? — глухо спрашивает лентяй.
— Когда хотите. Хоть завтра.
И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня
прогонишь!»
— Конечно, — говорю я, — вы не станете ученее оттого, что будете у меня
экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.