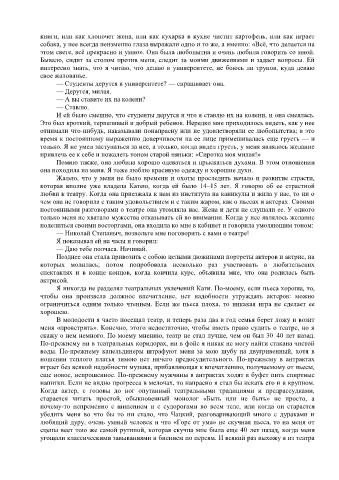Page 116 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 116
книги, или как хлопочет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет
собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Всё, что делается на
этом свете, всё прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной.
Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей
интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю
свое жалованье.
— Студенты дерутся в университете? — спрашивает она.
— Дерутся, милая.
— А вы ставите их на колени?
— Ставлю.
И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась.
Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее
отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это
время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть — и
только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание
привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»
Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении
она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.
Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти,
которая вполне уже владела Катею, когда ей было 14–15 лет. Я говорю об ее страстной
любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о
чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими
постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного
только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание
поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:
— Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!
Я показывал ей на часы и говорил:
— Даю тебе полчаса. Начинай.
Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на
которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских
спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть
актрисой.
Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то,
чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров: можно
ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее
хорошею.
В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит
меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я
скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30–40 лет назад.
По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой
воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в
ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах
играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы,
еще новое, непрошенное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные
напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном.
Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками,
старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а
почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле, или когда он старается
убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и
любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от
сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще 40 лет назад, когда меня
угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра