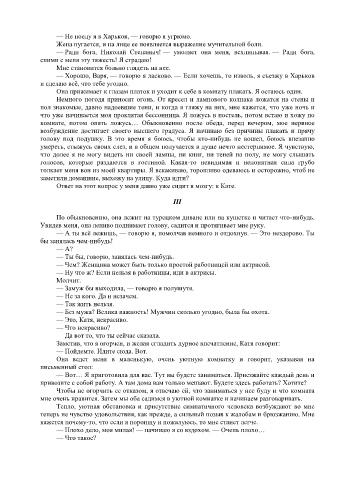Page 122 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 122
— Не поеду я в Харьков, — говорю я угрюмо.
Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.
— Ради бога, Николай Степаныч! — умоляет она меня, всхлипывая. — Ради бога,
сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!
Мне становится больно глядеть на нее.
— Хорошо, Варя, — говорю я ласково. — Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков
и сделаю всё, что тебе угодно.
Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.
Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и
пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и
что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по
комнате, потом опять ложусь… Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное
возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу
голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно
умереть, стыжусь своих слез, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую,
что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать
голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо
толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не
заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?
Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.
III
По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь.
Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.
— А ты всё лежишь, — говорю я, помолчав немного и отдохнув. — Это нездорово. Ты
бы занялась чем-нибудь!
— А?
— Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.
— Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.
— Ну что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.
Молчит.
— Замуж бы выходила, — говорю я полушутя.
— Не за кого. Да и незачем.
— Так жить нельзя.
— Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.
— Это, Катя, некрасиво.
— Что некрасиво?
— Да вот то, что ты сейчас сказала.
Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:
— Пойдемте. Идите сюда. Вот.
Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на
письменный стол:
— Вот… Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и
привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?
Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната
мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.
Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне
теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне
кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.
— Плохо дело, моя милая! — начинаю я со вздохом. — Очень плохо…
— Что такое?