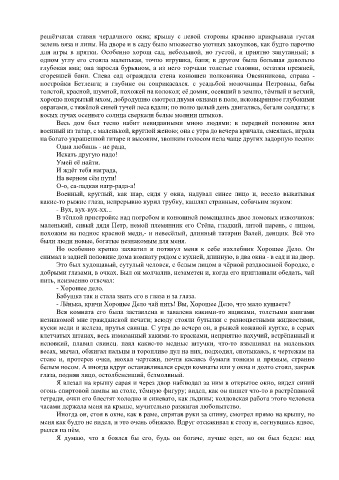Page 47 - Детство
P. 47
решётчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая
зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно
для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой, и приятно запутанный; в
одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая довольно
глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней,
сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа -
постройки Бетленга; в глубине он соприкасался. с усадьбой молочницы Петровны, бабы
толстой, красной, шумной, похожей на колокол; её домик, осевший в землю, тёмный и ветхий,
хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковырянное глубокими
оврагами, с тяжёлой синей тучей леса вдали; по полю целый день двигались, бегали солдаты; в
косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков.
Весь дом был тесно набит невиданными мною людями: в передней половине жил
военный из татар, с маленькой, круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла
на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню:
Одна любишь - не рада,
Искать другую надо!
Умей её найти.
И ждёт тебя награда,
На верном сём пути!
О-о, са-ладкая нагр-рада-а!
Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая
какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:
- Вух, вух-вух-хх...
В тёплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков:
маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Стёпа, гладкий, литой парень, с лицом,
похожим на поднос красной меди,- и невесёлый, длинный татарин Валей, денщик. Всё это
были люди новые, богатые незнакомым для меня.
Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело. Он
снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна - в сад и на двор.
Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в чёрной раздвоенной бородке, с
добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай
пить, неизменно отвечал:
- Хорошее дело.
Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.
- Лёнька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?
Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами
незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями,
куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых
клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрёпанный и
неловкий, плавил свинец. паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких
весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на
стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно
белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв
глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.
Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий
огонь спиртовой лампы на столе, тёмную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрёпанной
тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека
часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.
Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но
меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое,
рылся на нём.
Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над