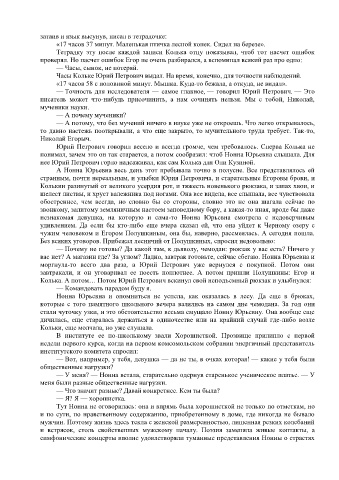Page 58 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 58
затаив и язык высунув, писал в тетрадочке:
«17 часов 37 минут. Маленькая птичка лесной конек. Сидел на березе».
Тетрадку эту после каждой записи Колька отцу показывал, чтоб тот насчет ошибок
проверял. Но насчет ошибок Егор не очень разбирался, а вспоминал всякий раз про одно:
— Часы, сынок, не потеряй.
Часы Кольке Юрий Петрович выдал. На время, конечно, для точности наблюдений.
«17 часов 58 с половиной минут. Мышка. Куда-то бежала, а откуда, не видал».
— Точность для исследователя — самое главное, — говорил Юрий Петрович. — Это
писатель может что-нибудь присочинить, а нам сочинять нельзя. Мы с тобой, Николай,
мученики науки.
— А почему мученики?
— А потому, что без мучений ничего в науке уже не откроешь. Что легко открывалось,
то давно настежь пооткрывали, а что еще закрыто, то мучительного труда требует. Так-то,
Николай Егорыч.
Юрий Петрович говорил весело и всегда громче, чем требовалось. Сперва Колька не
понимал, зачем это он так старается, а потом сообразил: чтоб Нонна Юрьевна слышала. Для
нее Юрий Петрович горло надсаживал, как сам Колька для Оли Кузиной.
А Нонна Юрьевна весь день этот пребывала точно в полусне. Все представлялось ей
странным, почти нереальным, и улыбки Юрия Петровича, и старательные Егоровы брови, и
Колькин разинутый от великого усердия рот, и тяжесть новенького рюкзака, и запах хвои, и
шелест листвы, и хруст валежника под ногами. Она все видела, все слышала, все чувствовала
обостреннее, чем всегда, но словно бы со стороны, словно это не она шагала сейчас по
звонкому, залитому земляничным настоем заповедному бору, а какая-то иная, вроде бы даже
незнакомая девушка, на которую и сама-то Нонна Юрьевна смотрела с недоверчивым
удивлением. Да если бы кто-либо еще вчера сказал ей, что она уйдет к Черному озеру с
чужим человеком и Егором Полушкиным, она бы, наверно, рассмеялась. А сегодня пошла.
Без всяких уговоров. Прибежал лесничий от Полушкиных, спросил недовольно:
— Почему не готовы? Да какой там, к дьяволу, чемодан: рюкзак у вас есть? Ничего у
вас нет? А магазин где? За углом? Ладно, завтрак готовьте, сейчас сбегаю. Нонна Юрьевна и
моргнула-то всего два раза, а Юрий Петрович уже вернулся с покупкой. Потом они
завтракали, и он уговаривал ее поесть поплотнее. А потом пришли Полушкины: Егор и
Колька. А потом… Потом Юрий Петрович вскинул свой неподъемный рюкзак и улыбнулся:
— Командовать парадом буду я.
Нонна Юрьевна и опомниться не успела, как оказалась в лесу. Да еще в брюках,
которые с того памятного школьного вечера валялись на самом дне чемодана. За год они
стали чуточку узки, и это обстоятельство весьма смущало Нонну Юрьевну. Она вообще еще
дичилась, еще старалась держаться в одиночестве или на крайний случай где-либо возле
Кольки, еще молчала, но уже слушала.
В институте ее по-школьному звали Хорошисткой. Прозвище прилипло с первой
недели первого курса, когда на первом комсомольском собрании энергичный представитель
институтского комитета спросил:
— Вот, например, у тебя, девушка — да не ты, в очках которая! — какие у тебя были
общественные нагрузки?
— У меня? — Нонна встала, старательно одернув старенькое ученическое платье. — У
меня были разные общественные нагрузки.
— Что значит разные? Давай конкретнее. Кем ты была?
— Я? Я — хорошистка.
Тут Нонна не оговорилась: она и впрямь была хорошисткой не только по отметкам, но
и по сути, по нравственному содержанию, приобретенному в доме, где никогда не бывало
мужчин. Поэтому жизнь здесь текла с женской размеренностью, лишенная резких колебаний
и встрясок, столь свойственных мужскому началу. Поэзия заменяла живые контакты, а
симфонические концерты вполне удовлетворяли туманные представления Нонны о страстях