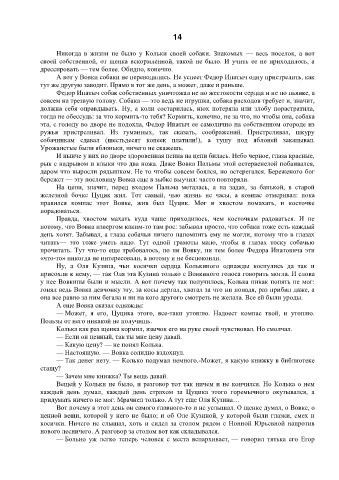Page 53 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 53
14
Никогда в жизни не было у Кольки своей собаки. Знакомых — весь поселок, а вот
своей собственной, от щенка вскормленной, такой не было. И учить ее не приходилось, а
дрессировать — тем более. Обидно, конечно.
А вот у Вовки собаки не переводились. Не успеет Федор Ипатыч одну пристрелить, как
тут же другую заводит. Прямо в тот же день, а может, даже и раньше.
Федор Ипатыч собак собственных уничтожал не по жестокости сердца и не по пьянке, а
совсем на трезвую голову. Собака — это ведь не игрушка, собака расходов требует и, значит,
должна себя оправдывать. Ну, а коли состарилась, нюх потеряла или злобу порастратила,
тогда не обессудь: за что кормить-то тебя? Кормить, конечно, не за что, но чтобы она, собака
эта, с голоду во дворе не подохла, Федор Ипатыч ее самолично на собственном огороде из
ружья пристреливал. Из гуманных, так сказать, соображений. Пристреливал, шкуру
собачникам сдавал (шестьдесят копеек платили!), а тушу под яблоней закапывал.
Урожаистые были яблоньки, ничего не скажешь.
И нынче у них но дворе здоровенная псина на цепи билась. Небо черное, глаза красные,
рык с надрывом и клыки что два ножа. Даже Вовка Пальмы этой остервенелой побаивался,
даром что выросли рядышком. Не то чтобы совсем боялся, но остерегался. Береженого бог
бережет — эту пословицу Вовка еще в зыбке выучил: часто повторяли.
На цепи, значит, перед входом Пальма металась, а на задах, за банькой, в старой
железной бочке Цуцик жил. Тот самый, чью жизнь не часы, а компас отмеривал: пока
нравился компас этот Вовке, жив был Цуцик. Мог и хвостом помахать, и косточке
порадоваться.
Правда, хвостом махать куда чаще приходилось, чем косточкам радоваться. И не
потому, что Вовка извергом каким-то там рос: забывал просто, что собаки тоже есть каждый
день хотят. Забывал, а глаза собачьи ничего напомнить ему не могли, потому что в глазах
читать— это тоже уметь надо. Тут одной грамоты мало, чтобы в глазах тоску собачью
прочитать. Тут что-то еще требовалось, но ни Вовку, ни тем более Федора Ипатовича эти
«что-то» никогда не интересовали, а потому и не беспокоили.
Ну, а Оля Кузина, чьи косички сердца Колькиного однажды коснулись да так и
присохли к нему, — так Оля эта Кузина только с Вовкиного голоса говорить могла. И слова
у нее Вовкины были и мысли. А вот почему так получилось, Колька никак понять не мог:
гонял ведь Вовка девчонку эту, за косы дергал, хватал за что ни попадя, раз прибил даже, а
она все равно за ним бегала и ни на кого другого смотреть не желала. Все ей были уроды.
А еще Вовка сказал однажды:
— Может, я его, Цуцика этого, все-таки утоплю. Надоест компас твой, и утоплю.
Пользы от него никакой не получишь.
Колька как раз щенка кормил, язычок его на руке своей чувствовал. Но смолчал.
— Если он ценный, так ты мне цену давай.
— Какую цену? — не понял Колька.
— Настоящую. — Вовка солидно вздохнул.
— Так денег нету. — Колько подумал немного.-Может, я какую книжку в библиотеке
стащу?
— Зачем мне книжка? Ты вещь давай.
Вещей у Кольки не было, и разговор тот так ничем и не кончился. Но Колька о нем
каждый день думал, каждый день страхом за Цуцика этого горемычного окутывался, а
придумать ничего не мог. Мрачнел только. А тут еще Оля Кузина…
Вот почему в этот день он самого главного-то и не услышал. О щенке думал, о Вовке, о
ценной вещи, которой у него не было; и об Оле Кузиной, у которой были глазки, смех и
косички. Ничего не слышал, хоть и сидел за столом рядом с Нонной Юрьевной напротив
нового лесничего. А разговор за столом вот как складывался.
— Больно уж легко теперь человек с места вспархивает, — говорил тятька его Егор