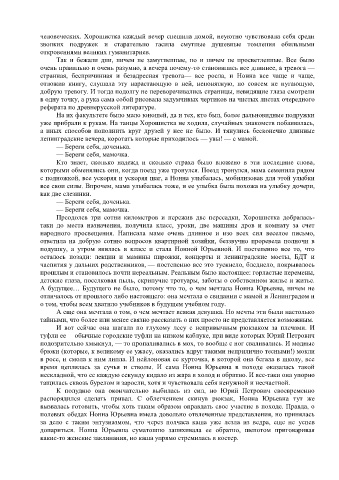Page 59 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 59
человеческих. Хорошистка каждый вечер спешила домой, неуютно чувствовала себя среди
звонких подружек и старательно гасила смутные душевные томления обильными
откровениями великих гуманитариев.
Так и бежали дни, ничем не замутненные, но и ничем не просветленные. Все было
очень правильно и очень разумно, а вечера почему-то становились все длиннее, а тревога —
странная, беспричинная и безадресная тревога— все росла, и Нонна все чаще и чаще,
отложив книгу, слушала эту нарастающую в ней, непонятную, по совсем не пугающую,
добрую тревогу. И тогда подолгу не переворачивались страницы, невидящие глаза смотрели
в одну точку, а рука сама собой рисовала задумчивых чертиков на чистых листах очередного
реферата по древнерусской литературе.
На их факультете было мало юношей, да и тех, кто был, более дальновидные подружки
уже прибрали к рукам. На танцы Хорошистка не ходила, случайных знакомств побаивалась,
а иных способов пополнить круг друзей у нее не было. И тянулись бесконечно длинные
ленинградские вечера, коротать которые приходилось — увы! — с мамой.
— Береги себя, доченька.
— Береги себя, мамочка.
Кто знает, сколько надежд и сколько страха было вложено в эти последние слова,
которыми обменялись они, когда поезд уже тронулся. Поезд тронулся, мама семенила рядом
с подножкой, все ускоряя и ускоряя шаг, а Нонна улыбалась, мобилизовав для этой улыбки
все свои силы. Впрочем, мама улыбалась тоже, и ее улыбка была похожа на улыбку дочери,
как две слезинки.
— Береги себя, доченька.
— Береги себя, мамочка.
Преодолев три сотни километров и пережив две пересадки, Хорошистка добралась-
таки до места назначения, получила класс, уроки, две машины дров и комнату за счет
народного просвещения. Написала маме очень длинное и изо всех сил веселое письмо,
ответила на добрую сотню вопросов квартирной хозяйки, беззвучно проревела полночи в
подушку, а утром явилась в класс и стала Нонной Юрьевной. И постепенно все то, что
осталось позади: лекции и мамины пирожки, концерты и ленинградские мосты, БДТ и
чаепития у дальних родственников, — постепенно все это тускнело, бледнело, покрывалось
прошлым и становилось почти нереальным. Реальным было настоящее: горластые перемены,
детские глаза, поселковая пыль, скрипучие тротуары, заботы о собственном жилье и житье.
А будущее… Будущего не было, потому что то, о чем мечтала Нонна Юрьевна, ничем не
отличалось от прошлого либо настоящего: она мечтала о свидании с мамой и Ленинградом и
о том, чтобы всем хватило учебников в будущем учебном году.
А еще она мечтала о том, о чем мечтает всякая девушка. Но мечты эти были настолько
тайными, что более или менее связно рассказать о них просто не представляется возможным.
И вот сейчас она шагала по глухому лесу с непривычным рюкзаком за плечами. И
туфли ее— обычные городские туфли на низком каблуке, при виде которых Юрий Петрович
подозрительно хмыкнул, — то пропаливались в мох, то вообще с ног сваливались. И модные
брюки (которые, к великому ее ужасу, оказались вдруг такими неприлично тесными!) мокли
в росе, и смола к ним липла. И нейлоновая ее курточка, в которой она бегала в школу, все
время цеплялась за сучья и стволы. И сама Нонна Юрьевна в походе оказалась такой
нескладной, что ее каждую секунду кидало из жара в холод и обратно. И все-таки она упорно
тащилась сквозь бурелом и заросли, хотя и чувствовала себя ненужной и несчастной.
К полудню она окончательно выбилась из сил, но Юрий Петрович своевременно
распорядился сделать привал. С облегчением скинув рюкзак, Нонна Юрьевна тут же
вызвалась готовить, чтобы хоть таким образом оправдать свое участие в походе. Правда, о
полевых обедах Нонна Юрьевна имела довольно отвлеченные представления, но принялась
за дело с таким энтузиазмом, что через полчаса каша уже лезла из ведра, еще не успев
допариться. Нонна Юрьевна суматошно запихивала ее обратно, шепотом приговаривая
какие-то женские заклинания, но каша упрямо стремилась в костер.