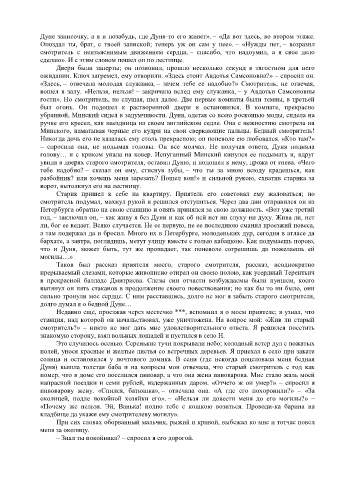Page 23 - Повести Белкина
P. 23
Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». – «Да вот здесь, во втором этаже.
Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». – «Нужды нет, – возразил
смотритель с неизъяснимым движением сердца, – спасибо, что надоумил, а я свое дело
сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.
Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него
ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» – спросил он.
«Здесь, – отвечала молодая служанка, – зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая,
вошел в залу. «Нельзя, нельзя! – закричала вслед ему служанка, – у Авдотьи Самсоновны
гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей
был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно
убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на
ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностию смотрела на
Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель!
Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?»
– спросила она, не подымая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла
голову… и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг
увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего
тебе надобно? – сказал он ему, стиснув зубы, – что ты за мною всюду крадешься, как
разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» и сильной рукою, схватив старика за
ворот, вытолкнул его на лестницу.
Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но
смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через два дни отправился он из
Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий
год, – заключил он, – как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет
ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса,
а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да
бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою,
что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей
могилы…»
Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно
прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич
в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего
вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они
сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя,
долго думал я о бедной Дуне…
Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что
станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый
смотритель?» – никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить
знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.
Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых
полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате
солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная
Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как
помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей
напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» – спросил я
пивоварову жену. «Спился, батюшка», – отвечала она. «А где его похоронили?» – «За
околицей, подле покойной хозяйки его». – «Нельзя ли довести меня до его могилы?» –
«Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на
кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».
При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел
меня за околицу.
– Знал ты покойника? – спросил я его дорогой.