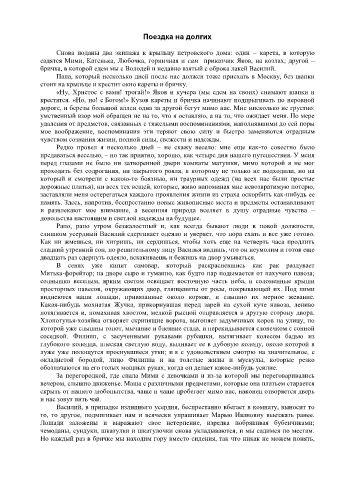Page 55 - Детство. Отрочество. После бала
P. 55
Поездка на долгих
Снова поданы два экипажа к крыльцу петровского дома: один – карета, в которую
садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и сам приказчик Яков, на козлах; другой –
бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.
Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки
стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.
«Ну, Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и
крестятся. «Но, но! с Богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной
дороге, и березы большой аллеи одна за другой бегут мимо нас. Мне нисколько не грустно:
умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере
удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры
мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным
чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.
Редко провел я несколько дней – не скажу весело: мне еще как-то совестно было
предаваться веселью, – но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня
перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог
проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на
который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые
дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю,
заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить как-нибудь ее
память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают
и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства –
довольства настоящим и светлой надежды на будущее.
Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности,
слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и все уже готово.
Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердишься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить
сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он неумолим и готов еще
двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.
В сенях уже кипит самовар, который раскрасневшись как рак раздувает
Митька-форейтор; на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза;
солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба, и соломенные крыши
просторных навесов, окружающих двор, глянцевиты от росы, покрывающей их. Под ними
виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание.
Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво
потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцой отправляется в другую сторону двора.
Хлопотунья-хозяйка отворяет скрипящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по
которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной
соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из
глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в
луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с
окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко
обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.
За перегородкой, где спала Мими с девочками и из-за которой мы переговаривались
вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается
скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще пробегает мимо нас, наконец отворяется дверь
и нас зовут пить чай.
Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то
то, то другое, подмигивает нам и всячески упрашивает Марью Ивановну выезжать ранее.
Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками;
чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам.
Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять,