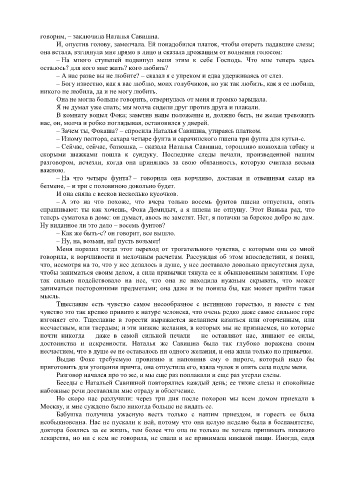Page 52 - Детство. Отрочество. После бала
P. 52
говорим, – заключила Наталья Савишна.
И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы;
она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом:
– На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь
осталось? для кого мне жить? кого любить?
– А нас разве вы не любите? – сказал я с упреком и едва удерживаясь от слез.
– Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любила,
никого не любила, да и не могу любить.
Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала.
Я не думал уже спать; мы молча сидели друг против друга и плакали.
В комнату вошел Фока; заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить
нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей.
– Зачем ты, Фокаша? – спросила Наталья Савишна, утираясь платком.
– Изюму полтора, сахара четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутьи-с.
– Сейчас, сейчас, батюшка, – сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и
скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим
разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма
важною.
– На что четыре фунта? – говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на
безмене, – и три с половиною довольно будет.
И она сняла с весков несколько кусочков.
– А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила, опять
спрашивают: ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что
теперь суматоха в доме: он думает, авось не заметят. Нет, я потачки за барское добро не дам.
Ну виданное ли это дело – восемь фунтов?
– Как же быть-с? он говорит, все вышло.
– Ну, на, возьми, на! пусть возьмет!
Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной
говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял,
что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа,
чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе
так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может
заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая
мысль.
Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинною горестью, и вместе с тем
чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе
изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или
несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые
почти никогда – даже в самой сильной печали – не оставляют нас, лишают ее силы,
достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим
несчастием, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке.
Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пироге, который надо бы
приготовить для угощения причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня.
Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы.
Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; ее тихие слезы и спокойные
набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.
Но скоро нас разлучили: через три дня после похорон мы всем домом приехали в
Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее.
Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была
необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве,
доктора боялись за ее жизнь, тем более что она не только не хотела принимать никакого
лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя