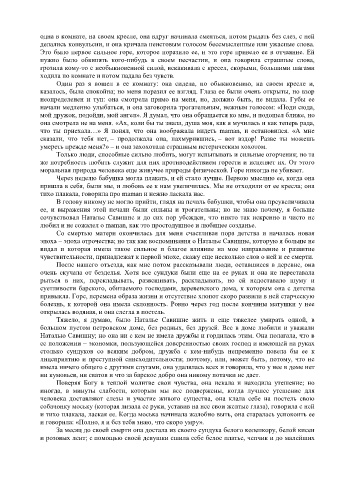Page 53 - Детство. Отрочество. После бала
P. 53
одна в комнате, на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней
делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова.
Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей
нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастии, и она говорила страшные слова,
грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами
ходила по комнате и потом падала без чувств.
Один раз я вошел в ее комнату: она сидела, по обыкновению, на своем кресле и,
казалось, была спокойна; но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор
неопределенен и туп: она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее
начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «Поди сюда,
мой дружок, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне, и подошел ближе, но
она смотрела не на меня. «Ах, коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада,
что ты приехала…» Я понял, что она воображала видеть maman, и остановился. «А мне
сказали, что тебя нет, – продолжала она, нахмурившись, – вот вздор! Разве ты можешь
умереть прежде меня?» – и она захохотала страшным истерическим хохотом.
Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та
же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого
моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает.
Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию ее, когда она
пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла; она
тихо плакала, говорила про maman и нежно ласкала нас.
В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала
ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны; но не знаю почему, я больше
сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не
любил и не сожалел о maman, как это простодушное и любящее созданье.
Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая
эпоха – эпоха отрочества; но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не
видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие
чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти.
После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она
очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках и она не переставала
рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и
суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства
привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую
болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее
открылась водяная, и она слегла в постель.
Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить и еще тяжелее умирать одной, в
большом пустом петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали
Наталью Савишну; но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в
ее положении – экономки, пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках
столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к
лицеприятию и преступной снисходительности; поэтому, или, может быть, потому, что не
имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет
ни кумовьев, ни сватов и что за барское добро она никому потачки не дает.
Поверяя Богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение; но
иногда, в минуты слабости, которым мы все подвержены, когда лучшее утешение для
человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою
собачонку моську (которая лизала ее руки, уставив на нее свои желтые глаза), говорила с ней
и тихо плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее
и говорила: «Полно, я и без тебя знаю, что скоро умру».
За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи
и розовых лент; с помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших